Большой трансформационный цикл: «реформы» или развал?
Политэкономия провала. Природа и последствия рыночных «реформ» в России / Под ред. Колганова А.И. М.: Едиториал УРСС, 2013. - 400 с.
Колганов А.И. (ред.) Политэкономия провала. Природа и последствия рыночных «реформ» в России. М.: Едиториал УРСС, 2013. - 400 с.
Политэкономия провала 2013 =Колганов


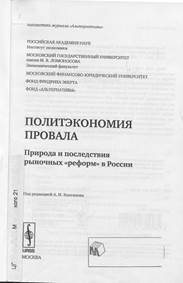
ББК 65.9(2) 66.3(2Рос)
Политэкономия провала: Природа и последствия рыночных «реформ» в России / Под ред. А. И. Колганова. — М.: Едиториал УРСС, 2013. — 400 с. (Библиотека журнала «Альтернативы».)
Цель этой книги — не высказать моральное негодование по поводу произошедшего со всеми нами за годы рыночных реформ и не возбудить вопрос о личной ответственности «реформаторов». Наша цель — внести вклад в теоретический анализ процесса, который одни называют переходом от плановой экономики к рыночной, другие — переходом от социализма к капитализму; третьи же уверяют, что это был возврат на путь цивилизованного развития. Мы же избрали для определения нашей научной задачи образное, но очень емкое выражение «политическая экономия провала». Нужно понять, почему и как произошел этот провал, как бороться с его последствиями и что нужно сделать, чтобы из провала выкарабкаться. В этой книге мы предоставляем слово тем, кто ведет научный анализ случившегося.
Книга предназначена для ученых-экономистов и представителей других общественных наук, для всех интересующихся историей рыночных реформ и корнями сложившейся сегодня в России социально-экономической ситуации.
|
|
|
Издательство «Едиториал УРСС».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, д. 9.
Формат60x90/16. Печ. л. 25. Зак. № ВС-58.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, НА, стр. 11.
ISBN 978-5-354-01459-0
ID 170522
© Коллектив авторов, 2013

9 "785354 014590"
| НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА | |
| § | E-mail: URSS@URSS.ru Каталог изданий в Интернете: http://URSS.ru Тел./факс (многоканальный): + 7 (499) 724 25 45 |
| URSS | |
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.
Содержание
Авторы 5
Предисловие (А. И. Калганов) 7
Часть 1. Реформы: странное лицо российского капитализма
К.А. Хубиев. Большой трансформационный цикл: 9
«реформы» или развал?
|
|
|
А.В. Бузгалин. Результаты «реформ» в России: рынок
и капитал .,
4о
В.Т. Рязанов. Экономические реформы и кризисы
в России 82
Д.Б. Эпштпейн. Экономика России в результате ее
«либерального реформирования» 101
Э.Н. Соболев. Механизмы и факторы деформаций в сфере
оплаты труда 128
Л.А. Булавка. Постсоветская культура: принуждение
к мутации 151
171 Часть 2. Реформы: отторжение инноваций
М.И. Воейков. К вопросу о результатах российских
«реформ»: состоялась ли модернизация? 171
4
Содержание
Е.В. Красникова. Парадокс российской модели капитализма: слабая восприимчивость к инновациям 195
А.И. Калганов. Ресурсные и институциональные
ограничения инновационного развития в российской 216
экономике А.И. Московский. 20 лет упадка и извращения смысла
|
|
|
науки и образования 247
282 Часть 3. Реформы: невыученные уроки
Р.С. Гринберг. Невыученные уроки 282
В.М. Кульков. О национальной адекватности
экономических преобразований в России 298
В.В. Букреев, Э.Н. Рудык. Приватизация в России:
выйти из плена старой идеологии 309
334 Часть 4. Реформы: что дальше?
Г.И. Ханин. От экономики разрушения к экономике
созидания: как провести этот переход с умом 334
Г.И. Ханин, Д.А. Фомин. Деньги для модернизации:
сколько нужно и где их взять? 343
С.Н. Бобылев. Нужна ли России «зеленая экономика»? 362
О.Н. Смолин. Будущее образования в постсоветской
России 389
Авторы
Бобылев Сергей Николаевич - доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Высшего экологического совета России, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Бузгалин Александр Владимирович - доктор экономических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.
|
|
|
Букреев Виктор Вениаминович - доктор экономических наук, профессор Российского государственного геологоразведочного университета.
Булавка Людмила Алексеевна - доктор философских наук, главный научный сотрудник Российского института культурологии.
Воейков Михаил Илларионович - доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором Института экономики РАН.
Гринберг Руслан Семенович - член-корр. РАН, директор Института экономики РАН.
Калганов Андрей Иванович - доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Красникова Евгения Васильевна - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Кульков Виктор Михайлович - доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Московский Александр Иванович - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Рудык Эмиль Николаевич - доктор экономических наук, профессор Международного университета природы, общества и человека «Дубна».
6
Авторы
Рязанов Виктор Тимофеевич - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета.
Смолин Олег Николаевич - доктор философских наук, член-корр. РАО, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию.
Соболев Эдуард Неньевич ~ доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН.
Фолшн Дмитрий Александрович - кандидат экономических наук, доцент Новосибирского государственного технического университета.
Ханин Гирш Ицыкович - доктор экономических наук, профессор Сибирской академии государственной службы.
Хубиев Кайсын Азретович - доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
Эпштейн Давид Беркович - доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства РАСХН.
Предисловие
Более двадцати лет назад, 2 января 1992 года, в России был дан старт так называемым радикальным рыночным реформам. Рассмотрению предпосылок, хода и результатов этих реформ была посвящена научная конференция «20 лет рыночных реформ в России», организованная при участии ИЭ РАН, экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, МФЮУ, Фонда Фридриха Эберта и Фонда «Альтернативы». Доклады, представленные на этой конференции, легли в основу данной книги. Для придания ей более целостного характера в нее были включены в новой редакции также некоторые ранее опубликованные материалы.
Началу рыночных реформ предшествовали длительные научные дискуссии. Однако в конце 1991 года реформаторы отбросили данные предварительных научных экспертиз, ясно показывавших перспективы этих реформ как с точки зрения формирования неэффективной социально-экономической модели, чреватой тяжелейшими социальными последствиями, так и с точки зрения прямых макроэкономических результатов, которые иначе как катастрофическими нельзя было назвать. Правительство Ельцина-Гайдара предпочло пойти на поводу корыстных интересов тех, кто собирался ловить рыбку в мутной воде, пользуясь тем, что лоббируемая ими модель реформ снимала с бизнеса не только социальную, но зачастую и всякую правовую ответственность.
С тех пор и большинство наших граждан, и представители бизнеса не раз имели возможность убедиться в том, что повторять, как заклинание, слово «рынок» совершенно недостаточно для того, чтобы выстроить обещанные нам эффективную экономику и цивилизованное общество. Падение реальных доходов подавляющего большинства населения, деградация науки, образования, здравоохранения, культуры, упадок национального производства, почти полная гибель высокотехнологичных отраслей промышленности, потеря продовольственной безопасности... На фоне всего этого происходило
8
Предисловие
невиданно быстрое даже по меркам совсем не цивилизованных стран обогащение кучки стервятников, допущенных до дележа общенародного достояния. Однако даже для выросшего, как на дрожжах, нового слоя предпринимателей эти реформы далеко не всегда поворачивались лицом. Сколько их погибло в настоящих гангстерских войнах за передел собственности и сколько еще продолжает гибнуть?
Цель этой книги, однако, не моральное негодование по поводу произошедшего со всеми нами за годы рыночных реформ и не возбуждение вопроса о личной ответственности «реформаторов». Наша цель - внести вклад в теоретический анализ процесса, который одни называют переходом от плановой экономики к рыночной, другие -переходом от социализма к капитализму, третьи же уверяют, что это был возврат на путь цивилизованного развития. Мы же избрали для определения нашей научной задачи образное, но очень емкое выражение - политическая экономия провала. Нужно понять, почему и как произошел этот провал, как бороться с его последствиями, и что нужно сделать, чтобы из провала выкарабкаться.
Здесь мы предоставляем слово тем, кто ведет научный анализ случившегося. Нам предстоит ответить на вопросы о том, что же за экономическая модель возникла в результате реформаторских усилий; почему российская экономика упорно отворачивается от инноваций, а ее модернизация по-прежнему остается пустым благопоже-ланием; какие уроки прошедших реформ упорно не желают усваивать творцы нашей экономической политики, повторяющие перед лицом продолжающегося упадка: - «с курса реформ не свернем!»; и, наконец, какие перспективы ждут нашу экономику в тех обстоятельствах, в которых она очутилась.
Те, кто пытаются разобраться в этих непростых вопросах, редко занимают позицию беспристрастного наблюдателя. Большинство авторов этой книги очевидно пристрастны. И их пристрастия продиктованы в первую очередь беспокойством за судьбу своей страны и ее народа. А в этих вопросах, полагаю, именно научная совесть не позволяет оставаться равнодушным. Имея дело с сухой экономической материей, нельзя ни на миг забывать о том, что за цифрами, графиками, статистическими таблицами стоят судьбы живых людей, наших с вами соотечественников. Именно ради них мы и ведем свою
работу.
А. И. Колганов
Часть 1
Реформы: странноемщо
Российского капитализма
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл: «реформы» или развал?
В координатах закона ускорения и уплотнения исторического времени двадцать лет - огромный период. Его достаточно для решения крупных задач любой индустриально развитой страны. Но при одном очень важном условии: если в данных странах действуют созидательные силы. За двадцать лет была создана практически новая индустриальная экономика в СССР на базе глубокой разрухи после мировой и гражданской войн. Индустриализация позволила победить в ВОВ. Да и послевоенная экономика динамично развивалась. «Отмашка» развернутой критике советской экономике была дана так называемой политикой перестройки, а исходным пунктом явилась ее характеристика как застойной. Предварительное рассмотрение этого периода необходимо для сравнительной оценки постсоветского периода.
Феноменология застоя
Слово «застой», несмотря на его довольно широкое распространение, особенно в конце 80-х годов теперь уже прошлого века, не получило права гражданства в экономической науке. В публицистической и иной литературе оно используется для общей характеристики исторического периода, предшествующему развалу СССР. Если не смысловым эквивалентом, то аналогом данного слова в экономической науке является стагнация, что означает воспроизводство
10
11
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
экономики на низменном уровне: производится и потребляется примерно одно и то же количество благ на одной и той же технологической основе. Строго говоря, даже эту ситуацию трудно назвать застоем, поскольку производственно-потребительский процесс непрерывен и даже простое воспроизводство - это процесс, а не застывающее состояние. Сразу заметим, что ни одному из перечисленных терминов не соответствует состояние экономики перед развалом ее государственного обрамления.
Слово «застой» не отражает и фиксированного временного периода в истории страны. Чаще всего имеется в виду пятилетний период (1980-1985), предшествующий смене политического руководства, когда на высшую руководящую должность был избран М.С. Горбачев. Иногда фиксируется десятилетний период или период правления от Хрущева до Горбачева.
Мы попытаемся рассмотреть экономическое (прежде всего) содержание процессов, предшествовавших драматическим событиям развала государства, произошедших два десятилетия назад и дать свою оценку, как самим истерическим событиям, так и причинам, породившим эти процессы. Разумеется, наш анализ будет в основном экономическим и придется обращаться к статистическим данным, без которых можно вести только общий и малосодержательный разговор с использованием слова «застой».
Обратимся кратко к экономическим изменениям за период с 1960-1985 г.г., отраженным в статистике. Валовой общественный продукт (ВОП) вырос на 387%, продукция промышленности на 485 %, валовая продукция сельского хозяйства на 170 %, производительность общественного труда выросла на 317%. Даже на базе очень предвзятого отношения нельзя трактовать подобную динамику как застой.
Теперь возьмем более короткий и исторически более близкий период: 1970-1985 г.г. За этот период ВОП вырос на 198%, продукция промышленности на 214 %, валовая продукция сельского хозяйства - на 123 %, производительность общественного труда выросла на 170 %.1Эти показатели выглядят более скромно по срав-
'Народное хозяйство СССР за 70 лет. Москва, Финансы и статистика 1987 год
с. 49
Мы будем использовать официальные источники. Отношение к ним теперь неоднозначное, но более надежных источников нет. Дяя некоторых читателей многие из приведенных данных могут оказаться известными, иные не
Часть 1 Реформы: странное лицо...
нению с предыдущими. Но и в них отражен двукратный рост промышленности.
И, наконец, - период с 1980 по 1985 характеризуется следующими данными. ВОП вырос на 119 %, продукция промышленности -на 120 %, сельского хозяйства - 111 %, производительность общественного труда - на 116,3 %.
Подытожим статистические данные среднегодовыми темпами роста основных экономических показателей за разные периоды с 1961 по 1986 годы, с выделением отмеченных периодов.
Таблица!

Народное хозяйство СССР за 70 лет. Москва, Финансы и статистика 1987 год
с. 51.
Статистический анализ свидетельствует о том, что никакого застоя в экономическом смысле (стагнация) не было. Даже в самый неблагополучный со статистической точки зрения период (1981 -1985) среднегодовые темпы роста составили 3,6 %, что по стандартам международной оценки экономического развития не считается неблагоприятными показателями. С позиции внутренней негативной оценки очевидным является снижение темпов экономического роста. Можно было прогнозировать затухание темпов экономического роста и даже переход экономики СССР в фазу стагнации. Но результаты 1986 года, приведенные в последнем столбце, не подтверждают прогнозы апокалипсического характера. В 2012 году, когда
восприимчивы к логике цифр. Но мы не располагаем более доказательной базой для анализа и оценок столь сложной темы.
12
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
13
Часть 1 Реформы: странное лицо...
готовился этот материал, темпы роста в 3-4 % были очень желанными для экономики США и западноевропейских стран.
Проводя промежуточный итог анализу экономического состояния СССР, можно сделать вывод о том, что фактом было снижение темпов экономического развития. Но мифом является то, что это послужило основой или причиной развала государства. Экономики разных стран, как свидетельствует экономическая история, переживает не только снижение темпов роста, но и стагнацию, и даже рецессию, т. е. физическое сокращение объемов производства и потребления. Но даже кризисное состояние экономики не является детерминацией развала государства. СССР испытывал сокращение производства в тяжелые годы войны в 1941-1942 годах. Экономические трудности в этот период сопровождались агрессивной вражеской пропагандой, направленной на развал государства изнутри. Но комплекс этих неблагоприятнейших условий не послужил причиной для распада государства. На этом историческом фоне совсем недавнего прошлого, наивным и ненаучным представляется суждение о том, что в середине 80-х годов прошлого века экономика СССР оказалась в столь тяжелом состоянии, что была обречена на развал вместе с государственным устройством. Удивление вызывает то, что подобные утверждения делают экономисты, которым хорошо известно, что в этот период у экономики не было ресурсных ограничений. Фактом является то, что были трудности: очень низкие цены на нефть, большие военные расходы, торможение научно-технического прогресса в гражданских отраслях, ослабление экономических стимулов в ряде отраслей и т. д. Но в рассматриваемый период у экономики СССР не было существенных причин для наступления столь острого экономического кризиса, выход из которого мог быть только через развал экономики и государства. Страна имела трудовые, сырьевые, финансовые, научные, технические ресурсы, достаточные для безопасного функционирования. Не прогнозировалось неожиданное истощение сырьевых ресурсов, крупных природных катаклизм, сокращения трудоспособного населения. С крупнейшей техногенной катастрофой - аварией на Чернобыльской АЭС страна справилась с значительными потерями, но без разрушительных последствий для всей экономики. Справилась страна и с природными катаклизмами (можно вспомнить землетрясение в г. Спитак, где установлен памятник Н. И. Рыжкову, председателю Совета Министров СССР, лично руководившему работами по преодолению последствий землетрясения). Экономическая система страны справилась с тяжелейшими
испытаниями войной 1941-1945 г.г., с изъятием из экономического оборота значительной части ресурсов, сокращением населения, уничтожением техники и т. д. При этом не было никаких признаков распада экономики и государства. У государства был запас прочности выработанный историческим опытом
Сокращение темпов экономического развития было очевидным для руководства страны. Поэтому, на 12-ю пятилетку (1986-1990) годы были запланированы более высокие темпы роста. В 1986 году наметились тенденции повышения темпов экономического развития. Они отразились в росте основных социально-экономических показателей, включая рост производительности труда. Планы 12-й пятилетки не были выполнены, поскольку были запущены разрушительные процессы, о которых речь пойдет ниже.
Реальностью также было отставание СССР в научно-техническом развитии по сравнению с развитыми странами. Но и этот факт не может рассматриваться как причина развала государства. Мировая экономика устроена таким образом, что не все страны развиваются в научно-техническом отношении синхронно. Одни опережают, другие отстают. Но почему только для одной страны отставание в научно-техническом развитии должно было является причиной для развала? Это еще один миф, достаточно распространенный, о причинах развала союзного государства. В экономической географии выделяется целая группа стран, которая характеризуется как страны «отставшие в капиталистическом развитии». В логически завершенной форме названная причина должна означать следующее: право на жизнь имеет только одно государство, лидирующее в научно-техническом развитии. Ведь все остальные страны будут считаться отставшими. Между тем, экономический мир являет собой пеструю мозаику дифференциации стран по уровню научно-технического развития.
Из научно-технического отставания есть два выхода, в том числе и для стран переходящих от плановой экономики к рыночной: мобилизация ресурсов (в том числе и политических) для преодоления данного отставания, либо использование данного факта отставания Для разрушения экономики и государства с целями, далекими от научно-технического прогресса. Первым путем пошел Китай, вторым -Россия.
Для союзного руководства не было неожиданностью научно-техническое отставание. Оно строило планы для преодоления данной ситуации в перспективе и конкретные меря были запланированы на
14
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
двенадцатую пятилетку (1986-1990). Объем капитальных вложений планировалось увеличить на 24 %. При этом приоритетным направлением считалось техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий. На эти цели планировалось выделить до 50 % капвложений до 1990 года. Основная нагрузка на решение задач технического перевооружения падала на машиностроение. В эту сферу планировалось увеличение капвложений в 1,8 раза. Для полноты картины перспективного планирования отметим, что предполагалось увеличить капвложения в социальную сферу. Например, планировалось ввести в городской и сельской местности до 2000 года не менее 2 млрд. кв. м. жилья. В двенадцатой пятилетке, по сравнению с предыдущей, планировалось ввести школ на 41 % больше, дошкольных учреждений - на 54%, больниц - на 19%, поликлиник - на
35 %2.
Возможны обоснованные сомнения относительно реальности и выполнимости этих планов. Но традиции и механизм функционирования плановой экономики, отсутствие ресурсных ограничений создавали реальные основы выполнимости намеченных планов, поскольку планы традиционно имели ресурсную привязку. Впрочем, результаты первых двух лет двенадцатой пятилетки свидетельствовали о реальности ее выполнения. Например, на техническое перевооружение и реконструкцию предприятий в 1986 - 87 годах по сравнению с соответствующим периодом предыдущей пятилетки объем инвестиций вырос в 1,7 раза. Среднегодовой темп прироста сдачи в эксплуатацию жилых домов за отмеченные два года двенадцатой пятилетки составил 7,3 % против 1,7 % в одиннадцатой пятилетке.
Существенным показателем позитивных изменений в экономике является рост производительности труда. Впервые за последние пятнадцать лет в области капитальных вложений были достигнуты плановые показатели роста производительности труда. В 1986 году за счет роста производительности труда был получен 71 % прироста строительно-монтажных работ, а в 1987 году- весь прирост3.
В первый год двенадцатой пятилетки наметились сдвиги в сторону научно-технического прогресса. Доля инновационной продукции в общем объеме производства составил 4,3 % против 3,1 % в 1986 г. Это удельный вес продукции, освоенной в СССР впервые.
Капитальное строительство СССР. М., «Финансы и статистика», 1988 г.,
с. 6-7.
3 Капитально строительство. Там же. С. 6.
15
Часть 1 Реформы: странное лицо...
Только в 1986 на техническое перевооружение и реконструкцию использовано было капитальных вложений на 25 % больше, чем в 1985 г. О структурных сдвигах, направленных в сторону технического прогресса свидетельствует то, что прирост продукции машиностроительного комплекса в 1,3 раза превышал рост промышленного производства в целом. Выросло производство станков с программно-числовым управлением, обрабатывающих центров роторно-конвейерных линий, промышленных роботов, гибких производственных модулей и т. п. За счет опережающего роста производства прогрессивных машин и оборудования, по данным ЦСУ, было обеспечено свыше трети прироста объема продукции машиностроительного комплекса4.
Завершая экономическую часть данной работы, мы приходим к выводу: экономических причин для развала СССР не было. Возникающие трудности были преодолимы в рамках существовавшей государственно-политической системы. При условии проведения созидательных, а не разрушительных реформ, где стимулы рыночной экономики, сочетаясь с государственным регулированием, порождали конкуренцию - страна имела шанс на вектор развития, а не разрушения, о чем убедительно свидетельствует опыт Китая. СССР и КНР имели практически одинаковые экономические системы и примерно с одинаковых позиций стартовали в сторону рыночной экономики, но с разными целями, методами и, соответственно, получили разные результаты. К сказанному следует добавить, что целый ряд экономистов, в том числе и автор этих строк, писали во второй половине 80-х годов о необходимости движения путем китайских реформ.
Одной из наиболее часто называемых причин развала страны называется разрушение потребительского рынка, выразившегося в дефиците продовольствия, потребительских промышленных товаров, введении карточной системы и т. п. Что здесь является фактом, а что мифологизировано. Фактом является то, что экономика страны была деформирована гипертрофированным развитием военно-промышленного комплекса. Тяжелые потери в ВОВ явились уроком для советского руководства, и оно в приоритетном порядке заботилось об обороноспособности и справлялось с этой задачей. В ВПК накапливались научные разработки, новые образцы и системы с заде-
Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник. М. «Финансы и статистика», 1985 г., с. 57.
16
17
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
Часть 1 Реформы: странное лицо...
лом на десятилетия. На симметричное развитие потребительского рынка ресурсов не хватало. Ощущались дефицит, перебои со снабжением, коррупция в сфере потребительского сектора. Теперь о мифах. Почему-то критики прошлой экономической системы (впрочем, и защитники) не учитывают того, что продовольственный рынок, например, был двухсекторным и функционировал в виде государственной торговли с регулируемыми, социально приемлемыми ценами и свободной рыночной торговли. (Рынки назывались колхозными, хотя торговали продовольственными и иными товарами потребительского назначения не только колхозники). Очереди и ограничения были в государственных магазинах по низким ценам. Но не было дефицита, поскольку на свободном рынке были продовольственные товары, по иным ценам, но по законам свободного рынка в соответствии со спросом и предложением. После либерализации цен законы уже функционирующего продовольственного рынка распространились на весь продовольственный рынок. Ничего нового не появилось, кроме того, что исчезла государственная торговля с ценами, доступными для граждан с низким и средним доходами. Либерализацией цен, выразившейся в их тотальном повышении, было создано видимое прилавочное благополучие при резком сокращении потребления основных продовольственных товаров. Официальная статистика показывает, что и теперь не восстановлен уровень потребления продовольственных товаров советского периода, хотя очередей нет, и прилавки заполнены товаром. Сокращению потребления соответствует сокращению поголовья скота, площадей обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.
Мифом является и то, что либерализацией цен реформаторы спасли страну от гражданской войны, к которой по их многочисленным заявлениям страна шла через очереди за продовольствием, табачными и алкогольными товарами, введение талонной и карточной системы. Особенно живописали эти факты Б.Немцов, тогдашний глава Нижегородской области, Е. Гайдар, председатель правительства, и др. При этом утверждалось, что трудности были созданы их предшественниками, то есть советскими руководителями, а они выступали спасителями отечества. Очень удобная позиция для обоснования необходимости проведения радикальных реформ с разрушительными последствиями. Здесь мифы замешаны на лукавстве. Политические силы, разрушавшие механизм советской экономики и ее потребительский рынок и радикальные реформаторы, якобы спасавшие страну - это силы, принадлежавшие одному и тому же векто-
ру. Первые готовили почву для вторых, а цель у них была одна - разрушение экономики и государства СССР. Лукавят реформаторы, списывающие разрушения потребительского рынка на советское руководство. Мифом является спасение отечества от голода и гражданской войны. Для спасения от голода страны требуется благополучный цикл сельскохозяйственного производства. Нельзя спасти страну от голода за один-два месяца либерализации цен. Перебои со снабжением и введение талонно-карточной системы были связаны с тем, что значительная часть товаров была убрана с прилавков государственным магазинов, чтобы тут же появится по более высоким ценам после их либерализации. После либерализации цен 2 января 1992 года (зимой) товары появились на прилавках не потому, что среди зимы собрали высокие урожаи или повысились привесы и надои. Напротив, именно после либерализации цен стало резко сокращаться как промышленное, так и сельскохозяйственное производство. Все, что сделали «спасители отечества» - это отменили торговлю в государственных магазинах по социально приемлемым ценам и распространили механизм торговли колхозных рынков на всю страну. Им даже не нужно было придумывать этот механизм, он уже был отработан в рамках советской экономики, но занимал определенную нишу. Его превратили во всеобщую форму. Только и всего. В свой актив реформаторы могут отнести только рост прибыли торговцев за счет повышения цен при сокращении объема потребления.
Не могут реформаторы отнести к своим заслугам создание новых товаров и производств или хотя бы расширение производства прежних. Они лишь перераспределили потоки, созданные их критикуемыми предшественниками. И потом, долгие разрушительные годы экономика функционировала на рыночных принципах, но на материально-технической и ресурсной базе, созданной в советские времена. По части созидания реальных благ реформаторам отличиться не удалось. Поэтому мифы творчества превращаются в оправдание разрушительных последствий их деятельности и даже некоторое миссионерство и героизацию.
В данной работе мы ставим перед собой цель - дать экономический анализ явления в нашей истории, именуемого застоем. Поскольку он употреблялся для обоснования развала страны, не избежать обращения к политическим проблемам. Не претендуя на истину в какой-либо инстанции, приведем наше видение. Прежде всего, следует обратить внимание на силы, заинтересованные в развале великой державы. Нам представляется, что в едином потоке слились три
18
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
силы: во-первых: США были заинтересованы в устранении с мировой политической арены своего самого грозного конкурента и выйти на позиции лидерства в установлении произвольного миропорядка по американскому образцу, не сдерживая себя в применении сил и средств,; во-вторых: Западная Европа была заинтересована в разрушении советской промышленности и получении потока сырьевых ресурсов, которые в Европе существенно истощились; в-третьих: в СССР к тому времени созрели силы, желавшие получить активы, имущество, финансовые и ресурсные потоки. Самым доступным способом приобретения государственной собственности, накопленной десятилетиями напряженного труда советских людей, было разрушение государства и ее экономики.
Эти три силы слились в едином разрушительном потоке. Они были поддержаны внутренними псевдодемократическими движениями, идеализированно декларировавшими ценности свободы. Основная масса обывателей была обманута поддразнивающей и навязчивой демонетизацией зарубежного прилавочного изобилия на фоне ими же разрушенного внутреннего потребительского рынка. К этому следует добавить внутреннее идеологическое предательство, состоящее в том, что находясь на высших должностях управления информационно-издательским комплексом, некоторые политические руководители (А. Яковлев) обеспечили доступ к средствам идеологической обработки населения оппозиционным (в итоге разрушительным) силам. Непоследовательность и двойственность поведения М. Горбачева., отсутствие четкой, детально проработанной программы социально-экономического развития страны, недостаток опыта государственного руководства и несоответствие личных качеств масштабам стоящих перед ним задач, привели к эрозии, а затем и разрушению политической и управленческой системы. Некоторые политики оценивают итог деятельности М. Горбачева как предательство возглавляемой им политической партии и государства. Мы не исключаем истинность такой оценки, но полагаем, что разрушительного итога своей деятельности М. Горбачев едва ли мог ожидать, а тем более желать. Не вина, а скорее может быть беда его, состоит в том, что его уровень как политического деятеля оказался недостаточным для выработки и осуществления программы созидательного развития страны, обладавшей для этого основными ресурсными возможностями. Однако, поскольку от допущенных ошибок руководителя страны пострадал не он лично, а миллионы людей, его можно считать виновным и даже привлечь к ответственности.
19
Часть 1 Реформы: странное лицо...
Факт празднования 80-летия М. Горбачевым не в среде своих политических соратников и не на родине, а за рубежом, свидетельствует о своеобразном политическом забвении. То, что сам М. Горбачев на это согласился (никто его к этому не принуждал) говорит о том, что не нашлось для юбиляра пространств торжества в разрушенной не без его участия стране. Печальный, если не трагический итог для бывшего руководителя одной из великих держав.
Последний вопрос, который мы намереваемся рассмотреть в этой работе ,состоит в следующем: почему народ не воспрепятствовал разрушению страны теми силами, которые были названы выше. По этому поводу тоже распространились мифы. Утверждается, например, что народ не препятствовал потому развалу государства и приватизации его имущества потому, что большинство народа желала этого. Конечно же, это миф, поскольку на проводимых референдумах народ выразил свою волю абсолютным большинством и однозначно высказался за сохранение союзного государства и против его разрушения. В руки политиков была вложена воля народа, которую эти политики всеми силами и средствами, имеющимися у государства, должны были выполнить и исполнить свой долг перед народом, выразившим свою волю. Но этой самой воли, только уже политической, не оказалось у политиков, которым народ доверился. Его воля оказалась преданной.
Утверждается еще, что через развал страны и радикальные реформы удалось пройти без гражданской войны потому, что большинство народа именно этих перемен желало. И это мнение тоже замешано на мифологии. Политическое устройство в стране было таково, что была единая и единственная вертикаль власти и управления. Дисфункция вершины этой вертикали парализует всю систему. Параллельных политических сил патриотического толка, структурированных и выступающих за единство страны и экономики не было (отдельные личности и группы не в счет). Если бы вместе с референдумом о сохранении СССР народу было бы объявлено о том, что действующая власть не в состоянии выполнить его волю, то могла сформироваться параллельная политическая сила, структурированная и разветвленная. Оппозиционные силы знали особенность политического устройства страны и хорошо этим воспользовались, разрушая страну и экономику сверху.
В 2011 году средства массовой информации активно вспоминали о ГКЧП. В этой связи успешно обсудить роль силового фактора в драматических событиях тех лет. По прошествии многих лет у нас
20
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл...
21
сформировались следующие выводы и оценки. Подобные события были в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Действующая власть оказалась перед необходимостью применения силы для сохранения стабильности в стране и сохранения условий для проведения созидательных реформ. Несмотря на дружное осуждение со стороны определенного круга зарубежных стран по поводу применения силы со стороны государства, в КНР сделали выбор, который позволил стремительно развиваться на протяжении почти трех десятилетий. Если предположить, что в КНР государство не решилось бы применить силу к так называемым демократическим движениям, и последние пришли бы к власти, то совсем нетрудно прогнозировать, что было бы в последствии: радикальные реформы - все то, что произошло в России: глубокий спад производства, межрегиональные конфликты и прочие «прелести» демократизации, хорошо известные из совсем еще недавней истории. Ответственные и компетентные политики в Китае приняли правильное решение. Рост экономики и благосостояния народа явилось практическим доказательством их исторической правоты. В России вопрос о применении силы решился иначе. М. Горбачев не решился на применение силы против разрушителей страны, включая участников Беловежского соглашения, совершивших государственное преступление по законам того времени. Члены ГКЧП не решились на применение силы против защитников Белого дома. Верховная власть перешла к так называемым демократическим силам, которые, в отличие от Горбачева и ГКЧП не постеснялись применить военную силу против уже других защитников, но того же Белого дома. Псевдодемократическая риторика оказалась излишней. Кровожадное стремление к власти одних и устремленность к государственным экономическим ресурсам других оказались куда предпочтительней демократической риторики. В переломные моменты история дала шанс противонаправленным силам проявить приверженность к ценностям. Рискнем предположить, что если применение военной силы в исторически переломное время было неизбежным, и она с такой же решительностью как в КНР была применена против разрушителей государства, в том числе и против первых защитников Белого дома, был шанс сохранить союзное государство в той или иной определенной форме и проводить созидательные реформы. А к каким результатам привело утверждение новой власти с применением силы, хорошо известно: беспрецедентный спад производства, сокращение средней продолжительности и качества жизни, депопуляция, безработица, техническая деградация и т. п. Лишь по истечении
Часть 1 Реформы: странное лицо...
первого десятилетия XXI века экономика приблизилась к восстановлению ВВП 1990 года. Потеряны два десятилетия. Историческое расточительство. За двадцать лет в предвоенные годы страна создала совершенно новую экономику на индустриальной основе. За послевоенные два десятилетия страна полностью восстановила разрушенное войной хозяйство, продвинулось в научно-техническом развитии, включая освоение космоса. Ничего подобного не произошло за последние два десятилетия после развала государства и проведения радикальных реформ. Исторически потерянное в научно-техническом, промышленном и аграрном развитии время. Как выразился один из историков, Россия сделала шаг в исторически неправильном направлении. С экономических позиций этот вывод совершенно справедливый и бесспорный.
Подводя итог, можно сделать следующее:
- слово «застой» с экономической точки зрения неточно характеризует соответствующий исторический период. На самом деле имело место снижение темпов роста, которое не было апокалипсическим;
- не было экономических причин для развала государства и его экономики;
- драматические события, связанные с развалом государства и экономики имели не экономические, а политические причины. Политика выступила концентрированным угнетением экономики. Рассмотрим ее последствия.
Особенности большого трансформационного цикла
Протекание макроэкономических процессов в Российской Федерации и постсоветском пространстве в течение последних двух десятилетий уникально в историческом плане. В современной экономической науке нет разработанных моделей и теорий, с помощью которых можно адекватно описать нынешнее состояние российской экономики и выявить её тенденции.
Образовавшийся пробел в экономической теории, в определенной мере, можно преодолеть, используя воспроизводственный подход, разработанный в рамках классической экономической теории. В соответствии с этим подходом экономика России за последние два Десятилетия проходит особый экономический цикл с некоторыми историческими аномалиями.
22
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
23
Часть 1 Реформы: странное лицо...
Во-первых: это исторический беспрецедентный цикл по своей продолжительности. Он охватывает два десятилетия и не укладывается в рамки закономерностей обычных циклов. В этой связи возникает вопрос о специфических причинах данного цикла. К его рассмотрению мы будем еще возвращаться. Но уже здесь необходимо отметить, что природа и основные причины данного цикла имеют не только и не столько экономическое содержание. Политические цели и установки зарубежных и отечественных политических сил, заинтересованных в разрушении государства, являются главным фактором длительного разрушительного цикла. В конце 80-х годов, как отмечалось, в СССР не было ресурсных проблем для наступления кризиса: сырьевых, трудовых, технологических и др. Постепенно реформируемая экономика не допускала возможностей разобщения трудовых и технологических ресурсов, а тем более их деградации и разрушения. Демонтаж плановой экономики был необходимым условием расстройства всей экономической и политической системы, что и было сделано. Другим генеральным направлением разрушения экономической системы в СССР было расчленение общенародной собственности в ее государственной форме. Что также было осуществлено в радикальном исполнении. Но разрушение экономической системы, складывавшейся десятилетиями, не могло оказаться краткосрочным процессом. Оно заняло два десятилетия. Таким образом, политика оказалась концентрированным угнетением экономики и этим объясняется разрушительность и длительность большого российского экономического цикла.
Во-вторых: описываемый российский экономический цикл оказался беспрецедентным по глубине спада. Сокращение ВВП к 1997 году составило около 50%. Такого сокращения основного макроэкономического показателя не было даже в самый тяжелый для страны 1942 год, когда немецкими войсками были захвачены экономически развитые территории на Западе и Юге страны. Такого глубокого спа да не было в США во времена Великой депрессии. Подобный уровень сокращения производства был зафиксирован в полностью оккупиро ванной и основательно разоренной Германии в 1945 году. Разрушение экономики станы по политическим мотивам и целям оказалось сопоставимым только с военными разрушениями разгромленной и оккупированной страны. Аналогов столь масштабного спада произ водства в двадцатом веке можно обнаружить лишь по результатам первой мировой войны. Таким образом, последствия спада произ водства по политическим причинам (сюда же можно отнести и воен-
ные причины) глубже, чем в периоды циклов, возникающих по сугубо экономическим закономерностям.
В-третьих: драматической особенностью описываемого цикла является то, что в нем нарушена одна из важнейших закономерностей, характерных для циклов, имеющих экономическую природу. А именно: на фазе оживления и подъема происходит массовое обновление основного капитала на новой технологической основе. В этом состоит главный позитивный результат цикла. Массовые технологические обновления основного капитала служит главным оправданием трудностей, которые переживают во время кризиса население и предприятия, поскольку массовым обновлением основного капитала создается технологическая основа для более высокой производительности труда, экономического роста и роста уровня жизни. Российский цикл выпал из этой закономерности. Десятилетний рост производства с 1999 года по 2008 год носил восстановительный характер. Он происходил, в основном, за счет загрузки старых производительных мощностей, высвободившихся во время спада производства. По данным Госкомстата обновление основного капитала составляет 3.6-4.1% (1992-2009г.) в условиях, когда его износ составляет 48,8%.5 При этом, удельный вес полностью выбывших основных фондов в 2006 г. составил 13,3%. Фаза оживления и подъема происходили в основном на базе изношенных основных фондов, созданных в советский период. Негативная тенденция восстановительного роста повторяется и в рамках кризиса, который еще не завершился. Социально-экономические жертвы, растянутые на два десятилетия, оказались напрасными. Выходя с самым ущербным результатом из двадцатилетнего цикла, экономика России вползла в новый финансово-экономический кризис. Консервация технологической отсталости обрекает экономику России на ведомую роль в мировом экономическом развитии, и сырьевая направленность её экономики может оказаться не временным качеством трансформационного периода, а приобретенным свойством с наследственными перспективами. Такая судьба экономики России полностью соответствует меморандуму международных финансовых организаций, предписывавшим в начале 90-х годов прошлого столетия уничтожить «не эффективную», с их точки зрения, промышленность России, обремененную военно-промышленным комплексом, а высвободившиеся при этом ресурсы переключить на более «эффективную» западную экономику. Содер-
5 Россия в цифрах 2010. М. 2010. С. 71.
24
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
25
Часть 1 Реформы: странное лицо...
жание подобных предписаний соответствовало мнению, которое высказывалось некоторыми высокопоставленными зарубежными политиками о том, что Россия не заслуживает занимаемых обширных территорий с богатыми запасами сырьевых ресурсов. Если США были заинтересованы в разрушении СССР как великой державы, то страны Западной Европы были заинтересованы в ресурсах, главным образом сырьевых. К этим двум политическим силам прибавилась третья, внутренняя сила. Это социальная прослойка, устремленная к частному захвату государственной собственности и финансовых потоков. Слияние этих трех основных сил с массированной манипуляцией общественным сознанием дало свои разрушительные результаты, а каждая из названных сил ценой этих разрушений удовлетворила свои интересы. В этом состояла суть политического угнетения экономики.
В-четвертых: на большой трансформационный цикл наложились два кризиса 1998 года и 2008 года. Это обстоятельство тоже составляют уникальное экономическое явление. Страны Запада (включая США) фрагментировано пережили кризис 1998 года и вступили в новый кризис после десятилетнего подъема с результатами технологического прогресса. В России оба кризиса (1998, 2008) были «вмонтированы» в один большой трансформационный цикл. Такие ситуации, когда на один большой цикл накладывается два кризиса, наукой не исследованы. Причем, как уже отмечалось, ни сам большой цикл, ни инкорпорированный в него кризис 1998 года не дали импульса к технологическому процессу и массовому обновлению основного капитала. Кризис в 2010 году переходит в фазу стагнации, но тенденция еще неустойчивая. Поэтому трудно определить потенциал технологического обновления российской экономики на фазе оживления и подъема. Для оптимистических ожиданий нет предпосылок. Негативный фон большого трансформационного цикла продолжает довлеть над перспективами технологического развития.
Итак, двадцатилетний период (1990-2010) мы определяем как большой трансформационный цикл (БТЦ). Трансформационный потому, что он охватывает период коренных межсистемных преобразований в социально-экономическом и политическом устройстве общества. Цикл потому, что в нем содержатся все фазы цикла: спад, депрессия, оживление, подъем.6
6 Иногда отмеченный двадцатилетний период называется кризисом, что верно лишь отчасти, потому, что кризис, по нашему мнению, отражает только
Текущий кризис - это часть современного экономического цикла, который вмонтирован в БТЦ и испытывает на себе еще не растраченный разрушительный потенциал БТЦ, который не позволяет перейти на позиции системного обновления основного капитала.
Реформаторы, якобы уводя страну из «застоя», привели ее к тяжелейшему кризису с определенными экономическими и социальными последствиями.
Макроэкономические тенденции, обнаружившиеся при прохождении фаз большого цикла
Либерализация цен в начале января 1992 года дала взрывную инфляцию в 2700 % в год. В 1993 году цены выросли еще на 1900 %. Производство резко сокращалось, опережающими темпами сокращались инвестиции. Социальными последствиями были: рост безработицы, снижение доходов, физическое сокращение населения России. Как общий социальный итог: снижение уровня и ухудшение качества жизни. Исключительно драматический период был пережит в первой половине 90-х годов.
До 1997 года шел непрерывный спад производства, хотя и замедляющимися темпами. Сокращалась инфляция, которая в суммарном выражении составила около 6 тыс. %. В 1997 году сформировались ожидания достижения дна экономического цикла в депрессион-ной фазе и перехода к фазе оживления. Для подобных ожиданий были следующие основания. ВВП показал прекращение спада и даже рост в пределах статистической погрешности 0,4 %. Инфляция составила 11% и опустилась до психологического минимума, меньше одного процента в среднегодовом исчислении. Но ожидаемое оживление после длительной рецессии не началось. Мировой финансовый кризис 1998 года прервал процесс стабилизации российской экономики. Кризис был непродолжительным, но сильным. Он вызвал новое сокращение производства в 4,8% и краткосрочное усиление инфляции 84%. По своей природе это был финансовый кризис, и основные последствия для экономики России тоже были финансовые -обвал фондового рынка и девальвация национальной валюты. Кри-
часть цикла (спад и депрессию). С 1998 г. наблюдалось оживление, поэтому ограничиться кризисной характеристикой экономики нельзя. Применительно к нынешнему циклу тоже намечается оживление и прогнозируется рост.
26
27
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
Часть 1 Реформы: странное лицо...
зис не затронул глубоко реальный сектор, и в 1999 году началось оживление и рост относительно высокими темпами. За 10 лет с 1999 по 2008 гг. ВВП вырос в 2 раза и по оценкам Госкомстата и Минэкономразвития, к 2008 году экономика России восстановила докризисный уровень 1990 года.
Официальные сведения о том, что экономика России удвоила ВВП за последние 10 лет и восстановила докризисный уровень, вызывает большие сомнения. Эти оценки не соответствуют сопоставимым показателям производства в натуральном выражении даже по относительно благополучным отраслям.
Обратимся к статистическим данным. Если взять за базовый 1991, а за текущий - 2008 (предкризисный) год, то обнаружится следующая картина. Уровень базисного периода восстановлен по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых 103,7; обрабатывающие производства 84,4. При этом производство машин и оборудования 61,0; производство транспортных средств и оборудования 69,2; За рассматриваемый период, по данным Госкомстата, не было восстановлено использование производственных мощностей.7 Если не восстановлено использование производственных мощностей, к тому же значительно изношенных, то производство товаров и услуг тоже не могло быть восстановлено.
Есть методические трудности сопоставления взвешенных по физическим объемам и стоимости величин. И тем не менее анализ динамики натуральных величин не оставляет сомнений в том, что уровень производства 1990 года по сопоставляемой товарной структуре еще не восстановлен.
Состав ВВП 1990 года значительно отличался от состава ВВП, по которому оценивались результаты экономического развития за указанный период. В докризисный период в ВВП не учитывался ряд услуг, в особенности финансового характера, хотя в этот период эти услуги тоже оказывались. Сопоставимая статистика докризисного и нынешнего периода отсутствует, а по оценкам ВВП 2008 года в сопоставительной товарной структуре составляет около 80% от докризисного уровня. На основе манипуляций составом ВВП выводятся официальные данные об удвоении ВВП за 10 лет, что означает преодоление 50% спада на рецессионной фазе большого цикла. За указанный период менялась и товарная структура ВВП. Опережающими
7 Россия в цифрах 2010. М. 2010, с. 209-214.
темпами росли отрасли сырьевого сектора, производства алкоголя и т. д. Резко сократилось производство в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
„! Качественная оценка факторов
восстановительного роста
' Сомнения относительно восстановления докризисного
уровня производства не служат поводом для отрицания восстановительного роста, который происходит с 1999 года по 2008 годы. Актуализируется вопрос об оценке, который необходим и полезен для определения перспектив послекризисного экономического развития. Существенно важно провести качественный анализ фазы оживления и подъема с учетом факторов роста.
1. Это был отложенный и восстановительный рост. Отложенный рост потому, что основные индикаторы роста сформировались в 1997 г. Начало роста было «отложено» из-за внешнего фактора - финансового кризиса 1998 года, который возник в Юго-восточной Азии и по каналам мировой финансовой системы перекинулся на Россию. Восстановительный рост потому, что он восстанавливал докризисный уровень на прежней технологической основе. Необходимо отметить, что за два десятилетия не восстановлено то, что разрушено. Эти годы потрачены зря, поскольку восстановление осуществлялось на прежней докризисной технической и ресурсной базе, которая высвободилась в период спада. Как отмечалось выше, фаза подъема не сопровождалась технологическими обновлениями производства. Поэтому и отмечается рост ВВП без развития экономики. В макроэкономической оценке за указанный период не происходил рост потенциального уровня экономики (потенциальный ВВП). Конечно, эти оценки относятся к экономике в целом, хотя в отдельных отраслях была высокая инвестиционная активность даже в период спада. Например, предприятия алкогольной отрасли активно перевооружали производство зарубежными технологиями. Но оценивая экономику в целом, нельзя утверждать, что из развалин кризиса экономика России вышла технологически обновленной. Наоборот, она увеличила свое отставание от технологически развитых стран. Уже здесь напрашивается вопрос: удастся экономике России выйти из кризиса 2008 года с технологически обновлением производства? На этот вопрос мы попытаемся ответить позже. Здесь же необходимо констатировать, что отсутствие технологического фактора роста в послек-
28
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
29
ризисный период требует тщательного анализа иных факторов экономического благополучия, которое вдохновляло идеологов и исполнителей радикальных реформ. По их мнению, двукратным ростом ВВП, доходов населения и другими позитивными результатами страна и население обязаны именно радикальным рыночным реформам.
2. Очевидным фактором роста была конъюнктура роста цен на мировых рынках сырьевых товаров, нефть, газ, металл, лес и др. Этот фактор достаточно широко освещен не только в экономической литературе, но и в средствах массовой информации, поэтому на нем мы подробно останавливаться не будем.
3. Не совсем ожиданным фактором восстановительного роста оказалась девальвация национальной валюты. В четыре раза в среднем повысились цены на импортные товары и услуги. Спрос переключился на отечественный рынок, и российские производители получили возможность для увеличения предложения своей продукции. Например, до 1998 года, в том числе и в, Сочи, избранном в качестве столицы предстоящих Олимпийских игр, не были заняты огромные возможности для организации отдыха и лечения. Зато иностранные курорты были заполнены российскими отдыхающими. Но после девальвации рубля уже в 1999 году курорты России оказались переполненными. В Сочи, например, наполненность оказалась более 100%. На полную мощность заработали курорты Кавказских Минеральных вод. Оживилось отечественное производство продуктов питания. Отечественными производителями оперативно внедрились в импортозамещающее производство товаров и услуг. Оперативность оказалась возможной потому, что были использованы ресурсы, высвобожденные рецессией. В этом суть восстановительного роста. Оживление экономики по данному фактору носило ситуационный характер. Конкурентоспособность российской экономики не повысилась, производственную базу составляли устаревшие фонды. Поэтому фактор импортозамещения на основе девальвации национальной валюты не мог быть долгосрочным, и он исчерпал себя по мере перестройки цен и их адаптации к мировым ценам на основе нового валютного курса. Помимо краткосрочности у данного фактора есть еще одна негативная черта. Оборотной стороной импортозамещающего роста оказалось снижение реальных доходов населения. Рост производства дался ценой снижения уровня жизни. В силу изложенного данный фактор не может быть отнесен к качественным факторам роста. Его суть: краткосрочность, ситуационность, противоречивость.
Часть 1 Реформы: странное лицо...
4. В указанный период образовался еще один фактор. Он касается уровня монетизации экономики. Одной из особенностей рецесси-онного периода была, как уже отмечалось, высокая инфляция. Борьба с ней велась сжатием денежной массы. В экономике образовался недостаток денежной массы для обслуживания нормального обращения товаров и услуг. Низкий уровень монетизации экономики привел к распространению бартерной торговли (натурального обмена), что также служило тормозящим фактором для всей экономики. Конец 90-х годов обеспечил деньгами каналы денежного обращения. Центральный банк скупал валютную выручку экспортеров через межбанковскую валютную биржу и свои обязательства покрывал выпуском рублевой массы. Повышался уровень монетизации, нормальное товарно-денежное обращение вытесняло бартерные сделки, ускорялись сделки, стимулировались долгосрочные проекты и т.д. Таким образом, повышение уровня монетизации явилось еще одним фактором оживления и роста экономики.
5. В последние годы все чаще стал отмечаться такой фактор как рост внутреннего спроса как стимула для роста предложения. Но и он противоречив. Темпы роста доходов опережают рост производительности труда. Это прямой путь к незаработанному проеданию доходов от невозобновляемых ресурсов. Данный фактор сопряжен с затянувшейся невосприимчивости российской экономики к инновациям и модернизации
Перечисленные факторы, в их качественной оценке, нельзя отнести к позитивным по следующим основаниям.
Они не являются результатом целенаправленного действия правительства. Отложенный и восстановительный рост не обозначались как специальная правительственная программа. Мировая конъюнктура цен на сырьевые товары и энергоносители формируются стихийно, а не по воле правительств отдельных стран. Девальвация национальной валюты не ставилась как задача в правительственных программах. Повышение монетизации экономики является следствием роста валютной выручки экспортеров. Лишь политику роста доходов как фактора стимулирования предложения в какой-то мере можно отнести в заслугу правительства, учитывая, однако, отмеченную противоречивость.. Итак, перечисленные факторы оживления нельзя отнеси к заслугам правительства. Они сформировались стихийно, выступили как внешний дар, а правительство скорее паразитировало на этом, не прилагая существенных усилий по выработке и реализации масштабной программы экономического развития. Себе
30
КА Хубиев
Большой трансформационный цикл.
в заслугу правительство относит формирование стабилизационного фонда за счет бюджетного профицита. Эта заслуга особенно сильно пропагандировалась в 2009 году, в год кризиса, с указанием на то, что стаб. фонд служит запасом прочности экономики России перед вызовами и угрозами мирового финансового кризиса. Немного позже мы дадим оценку данным заслугам правительства.
Рассмотренные факторы явились конъюнктурными недолгосрочными и противоречивыми. Конъюнктурность объясняется состоянием мировых рынков, которые имеют как повышательные, так и понижательные тенденции, в своем циклическом развитии. Конец 80-х годов XX века продемонстрировал понижательные тенденции. Конец первого десятилетия XXI столетия тоже демонстрирует понижательную тенденцию. Зависимыми от конъюнктуры оказались факторы: импортозамещения, монетизации и рост доходов.
Противоречивость перечисленных факторов не стала еще предметом специального исследования среди экономистов, соответственно она не учитывается правительством в выработке и реализации экономической политики. Между тем, важность подобного анализа трудно переоценить. Начнем с доходов населения. Они действительно опережали рост ВВП. Рост доходов также опережал рост производительности труда. На самом деле это негативная ситуация роста незаработанных доходов. Их прямым следствием является усиление инфляционных процессов или паразитических традиций. Либо сочетания двух негативных тенденций одновременно. Качественно и инновационно развивающуюся экономику за счет технологического прогресса характеризует опережение производительностью труда роста доходов. Тогда и рост ВВП обеспечивается преобладанием интенсивного фактора. Противоречивым был и фактор импортозамещения, поскольку он как уже отмечалось, достался ценой высокой инфляции, девальвации национальной валюты и снижения реальных доходов населения. Противоречивым был и исходный фактор, превосходящий остальные факторы по важности - рост цен на экспортные ресурсы. Поскольку экспортные товары были включены в мировые тенденции роста цен на исходные сырьевые ресурсы, то несложно было прогнозировать, что по технологическим цепочкам этот процесс приводит к удорожанию конечных товаров и услуг, а это, в свою очередь, приведет к трудностям реализации и в итоге к рецессии. Истоки кризиса нельзя сводить только к трудностям ипотечного кредитования и иным финансовым причинам. Многолетний рост цен на исходные ресурсы должен был обернуться ростом цен на конеч-
31
Часть 1 Реформы: странное лицо...
ные товары и услуги: продовольствие, недвижимость и др. Взрыв цен на продовольственные товары, беспрецедентный рост цен на недвижимость - это обратный результат устойчивого роста цен на исходные ресурсы и это одна из причин экономического кризиса. Возможно это более существенная причина, чем кризис ипотечного кредитования и причин затруднения на финансовых рынках.
Россия относится к числу стран, получивших выгоду от роста цен на ресурсы и она имела финансовые возможности для противостояния экономическому кризису. При этом следует иметь в виду, что данный кризис не только финансовый, а финансово-экономический, затрагивающий реальный сектор экономики. Противостоять такому кризису можно упреждающим инновационным развитием. Все ресурсы и накопления должны быть направлены на новые технологии: ресурсосберегающие, высокопроизводительные. Накопление профицита бюджета, полученного от конъюнктурных факторов - это самая пассивная форма использования средств. С одной стороны, накопления складывались в стабилизационный фонд. Для смягчения финансового кризиса стаб. фонд служит хорошим инструментом. Активами в форме финансов легко поддержать затруднения на финансовом секторе. Но если это кризис не только и не столько финансовый, а финансово экономический, с рецессией в реальном секторе, то стратегия стаб. фонда ошибочна. Активной позицией правительства в данном случае было бы использование всех накоплений и даже привлеченных средств на инновационное развитие и технологическое обновление. Именно такую политику проводили другие страны, например США, где не только накопления, но и бюджетный дефицит использовался для политики, стимулирующей инновационный тип развития. Поэтому Россия и развитые западные страны вступили в кризис с разными технологическими позициями. Соответственно и выйдут они из кризиса в разном состоянии. В этой связи встает судьбоносный вопрос для экономики России - состоящий в следующем: из большого цикла 1990-2010 года и финансового кризиса 1998 года Россия вышла без обновления основного капитала, без инновационного составляющего. Удастся ли ей из кризиса 2009 года выйти с технологически обновленной производственной базой? Без активной позиции правительства, направленной на достижение данной цели и с надеждой на инновационное могущество стихии рынка достижение подобной цели нереально.
А это самый важный вопрос для экономики России. Более важных вопросов, в обозримом будущем, нет. Следует заметить, что в
32
33
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
Часть 1 Реформы: странное лицо...
академических и университетских кругах развивались идеи существенной корректировки экономической политики, направленной на активную поддержку реального сектора и технологическое обновление. Лишь после наступления кризиса правительство стало обращать серьезное внимание на поддержку реального сектора, да и то после заботы о поддержке финансового сектора.
Инновационная риторика на фоне кризиса
Схожесть социально экономических систем на постсоветском пространстве проявляется в почти, что синхронной риторике в области экономической политики. Инновационная риторика сменяется модернизационной. Причем, Республика Казахстан опережает других, в том числе и Россию.
Незадолго до наступления кризиса (2008) на уровне руководства РФ развернулась инновационная риторика, сопровождаемая отдельными мероприятиями по поддержке новые исследовательских направлений и перспективных технологий. Любая активность в данном направлении, поддерживаемая ресурсами и средствами заслуживает поддержки. Но, к сожалению, два обстоятельства не позволяют рассчитывать на плодотворные результаты. Во-первых: это несколько запоздалые действия. Наступивший кризис вызвал судорожную деятельность по противостоянию его разрушительным последствиям. Во-вторых: разноплановая действительность по инновационному развитию не носит системный характер. Даже создание отдельных госкорпораций не объединено единой инновационной идеологией и программой межотраслевых и народнохозяйственных диверсификаций. Риторика преобладает над реальной деятельностью. Следует заметить, что в рамках СНГ уже накоплен более продвинутый опыт создания институтов развития.
Чем объясняется инновационная стагнация в России? Помимо объективных причин, связанных с кризисом и спадом производства (что тоже связано с субъективными принципами выбора модели реформ, имеющих гетерогенную природу и разрушительные последствия) имеются и локально субъективные причины. В плотных околоправительственных кругах экономических советников господствовала идея саморазвития экономики, ее самомодернизация, «снизу». Логическим завершением данной позиции явилась формула «чем меньше государственное участие, тем выше темпы экономического развития». Данная формула распространялась на модернизацию, ин-
новации и все лучшее, что может произойти в экономике и обществе. Беспрецедентное участие государств развитых стран в судьбе частного бизнеса, демонстрируемый в последнее время приглушил тон неолиберального оптимизма. Если брендовые фирмы США (Форд, Крайслер...) жизненно нуждаются в государственной помощи, а государство не может он них отмахнуться неолиберальной риторикой, надо думать об иных парадигмах. Заявления лидеров ЕС о том, что мировая экономика нуждается в новой финансовой и экономической системе, свидетельствует не о конъюнктурном восприятии происходящих событий, в том числе и связанных с государственным участием. Назрел существенный вопрос об изменении характера взаимодействия реального и финансового секторов экономики, и роли фондового рынка.
Кризис - не лучший фон для обсуждения теоретических вопросов инновационного развития. С другой стороны, именно кризис высветил актуальность данной проблемы с несколько неожиданной стороны. Экономической теорией доказано и практикой подтверждено, что упреждающее инновационной развитие экономики является самым эффективным способом противостояния экономическим кризисам. А если кризис неумолимо наступил, то массовое обновление основного капитала (аналог массовой инновации) является основным позитивным результатом, оправдывающим лишения кризисной поры, и самым эффективным способом выхода на траекторию качественного нового этапа экономического развития.
Экономика решительно отклонилась от закономерностей циклического развития, старательно коллекционируя все негативные ее черты и обходя позитивные тенденции. Из беспрецедентно глубокого цикла, растянувшегося на два десятилетия, мы выходили с незначительным по масштабам и глубине обновлением основного капитала. Неоправданными, с точки зрения исторического развития, оказались жертвы российского народа, а экономика России еще больше отстала от мирового развития.
Подобная ситуация могла быть хоть как-то оправдана на фазе спада и депрессии, хотя их характер и глубина были в существенной мере вызваны безоглядно выбранной и радикально проводимой политики экономического либерализма. Можно было оправдать положение технологической стагнации отсутствием благоприятной среды Для инновационного рывка народнохозяйственного масштаба. С 1999 года накапливались источники инвестиций, но процесс массового технологического обновления не наступал. Центральный банк
34
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл...
накапливал резервы, правительство копило профицит бюджета в самых пассивных для инновационного развития формах (инструментах), которые оказались в огне финансового кризиса. Предстоит еще подсчет потерь результатов политики примитивного накопительства. Сегодня эта политика выдается за мудрое предвидение. Дескать, подушки безопасности были приготовлены специально для такого случая, чтобы смягчить удары очередного кризиса. Пожалуй, это самое существенное, что выдает отечественная либеральная экономическая мысль, продемонстрировавшая свое очевидное банкротство. Беда еще в том, что она, получив в свое время реальные рычаги экономической власти, увлекла российскую экономику в бездну технологической стагнации и отставания от мирового развития.
Экономический кризис породил довольно забавную оправдательную риторику. На нее можно было не обращать серьезного внимания, если бы она была невинной и не касалась бы причин кризиса, ответственности за ее результаты и оценки экономической политики. Ее суть состоит в том, чтобы далеко за океан отвести причины финансово-экономического кризиса, а отечественную экономику представить в виде невинной жертвы. По этой логике - раз причины кризиса далеко за океаном, то и виновные там же. Позиция предусмотрительной жертвы, накопившей рисковые резервы, куда предпочтительнее положения хотя бы соучастника. Но ведь отечественная экономическая модель выкраивалась по заокеанским лекалам и именно поэтому так синхронно лихорадит наши экономики. Правящая элита не решается даже на те заявления, которые все громче звучат из уст некоторых ведущих политиков в Западной Европе, о необходимости перестройки финансовой системы; изменения экономической политики и даже экономического миропорядка. Критика персон, олицетворяющих зарубежную экономическую политику, признанной первопричиной мирового финансово-экономического кризиса, должна продолжиться в критическом анализе модели экономического устройства, основы которой были созданы по их же рецептам.
Основным противоречием воспроизводственного процесса за последнее десятилетие была стерилизация средств (источников) инновационного развития. Благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков позволила накопить средства, которые превращались в пассивные фонды, размещенные в активах других стран. Экономика США, например, где размещалась часть стабилизационного фонда, функционировала при бюджетном дефиците, поскольку ин-
35
Часть 1 Реформы: странное, лицо...
новационно активная экономика с жадностью поглощает не только собственные накопления, но и привлеченные извне средства. Напротив, образование бюджетного профицита, а тем более его пассивная «стерилизация» являются свидетельством экономической политики, по своей сущности, отторгающей инновационные процесс в народнохозяйственном масштабе. Отдельные попытки поддержать перспективные направления развития науки и технологий носят точечный характер, но не характеризуют сущность экономической политики как инновационно ориентированной.
Достаточно убедительно звучали иные голоса, высказывавшие альтернативные взгляды. Еще в середине 90-х годов предлагались политика «инвестиционной экспансии» в качестве национально экономической идеи. В новых условиях предполагалось реализовать народнохозяйственную инвестиционную стратегию, соизмеримую с довоенной индустриализацией в СССР. Подробная идея, в разных вариантах с разными подходами и обоснованиями развивалась в академических и вузовских кругах. Но иные кумиры властвовали умами политиков. Оказавшись у разбитого инновационного корыта, идеологам проводимой экономической политики остается забота о припасенных амортизаторах кризиса, над которым висит дамоклов меч обесценения в водоворотах финансового кризиса.
Заслуживает специального внимания еще одно противоречие глобальной экономики, всосавшей в воронку кризиса и нашу - отечественную. Страны, которые принято назвать развитыми, озабочены поддержкой финансового сектора экономики, в том числе и за счет бюджетных денег. Существует мнение, достаточно обоснованное и признаваемое многими экономистами и политиками, что причиной современного и предыдущего (1998 г.) кризиса является гипертрофированное развитие финансового сектора за счет клонирования вторичных активов и деривативов. И, тем не менее, именно в сторону финансового сектора обращена помощь этих стран. Реальный сектор, создающий реальные блага остается в лучшем случае на втором плане. Развитые страны, будучи лидерами в области технологий могут себе это позволить, хотя и там имеются альтернативные мнения. Но российская экономика, пристраивающаяся им в затылок по части направлений финансовой помощи, находится в ином технологическом состоянии и ей следует решать другие задачи как текущего, так и стратегического порядка.
Даже в Западной Европе часто звучат голоса довольно влиятельных политиков о необходимости существенного переустройства, как
36
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл...
37
Часть 1 Реформы: странное лицо...
финансовой системы, так и экономического мироустройства. Одним из назревших направлений в этом отношении является изменение пропорций и механизмов функционирования финансового и реального секторов в пользу последнего. Необходимо определиться в приоритетности сектора экономики, несущего главную нагрузку по жизнеобеспечению общества. Но именно на финансовом секторе сосредоточены интересы владельцев всеобщей формы денежного богатства. Имея экономически обеспеченное влияние на власть, они едва ли позволят посягнуть на область своих интересов. Мировой кризис и политика властей по смягчению его последствий обнажили и социальные противоречия. Налогоплательщики США и Западной Европы справедливо ставят вопрос о том, почему за счет бюджетных средств оказывается помощь финансовым магнатом и спекулянтам, звучат голоса в пользу изменения направлений антикризисных мер. Например, предлагается на суммы, эквивалентные финансовой помощи, снизить налоги с тем, чтобы стимулировать спрос со стороны покупателей и уменьшить издержки со стороны производителей. Эти меры направлены на поддержку реального сектора. Несмотря на экономическую обоснованность данной позиции, за ней не стоит влиятельная институционализированная сила.
Мобильность и сила влияния заинтересованных представителей финансового сектора оказались сильней как в мире, так и в нашей стране.
Из глубочайшего кризиса девяностых годов Россия вышла ни с чем, в смысле технологического обновления, нарушив, тем самым, закономерность циклического развития. Необычная с точки зрения теории и истории реальность еще не стала предметом глубокого анализа и прогностических оценок. Возникла новая проблема, точнее та же проблема, только в новом издании: с чем мы выйдем (в том же смысле технологического обновления) из очередного кризиса. Заявления политиков и некоторых экономистов о том, что экономика России выйдет из кризиса еще более сильной можно лишь по форме оценить как перспективные. Но нигде не излагается суть экономической политики, отторгающей инновационное развитие. Почему именно этот кризис должен усилить экономику, если этого не сделали другие кризисы. Ответы на эти вопросы не предполагаются, они не ищутся активно, поскольку в этом случае придется оценивать суть проводимой политики. К этому правящая элита и обслуживающая ее экономическая теория не готовы. Преобладают настроения переждать экономический кризис ничего, по сути, не меняя в модели
экономической политики в сторону реального сектора экономики с сильным акцентом на технологические инновации, усугубится технологическая маргинализация российской экономики, обреченная на еще большую зависимость от конъюнктуры мирового сырьевого рынка.
Инновационная риторика сменилась модернизационной. Речь идет лишь об уровне осознания важности проблемы на уровне высшего руководства России. Ее практическая реализация, вылившаяся в перетягивание бюджетного каната между Минфином и Минэкономразвития, свидетельствует о суетной заурядности практических действий. Проблема нынешней модернизации сопоставима с довоенной индустриализацией. Соответствующей должна быть политическая воля, ресурсы, научно-технические разработки и механизмы. Главный вопрос - ресурсы, которые должны соответствовать масштабам изменений
Россия оказалась в числе стран, получившей большие доходы от конъюнктурного роста цен на товары ее сырьевой группы. Она имела уникальный исторический шанс использовать «золотой дождь» для упреждающего технологического рывка при определенной политике. Это не запоздалое прозрение. Такая точка зрения активно излагалась экономистами академического и университетского базирования. (Мы предлагали политику инвестиционной экспансии, соизмеримой в историческом масштабе с довоенной индустриализацией, превратить в национальную экономическую идею). Но были более значимые авторитеты, занимавшие те же позиции (академик РАН Д. С. Львов, чл.-корр. РАН С. Ю. Глазьев и др.) Но эти идеи не могли пробиться через плотные слои околоправительственных экономистов «толпою жадною теснящихся у трона», монополизировавшие все правительственные заказы и гранты. На государственные деньги они развивали идеи «модернизации снизу», «либерализации внешнеэкономической деятельности». Был даже «выведен» закон - чем меньше государственное участие в экономике, тем выше темпы экономического роста (это плоды интеллектуальных усилий бывшего экономического советника главы государства и его единомышленников). Здесь наступает момент истины: эффективна та экономика, которая поглощает все свои накопления на нужды технологического прогресса. А еще эффективней экономика, заимствующая на эти же цели, поскольку при этом происходит накопление конкурентоспособности и экономической эффективности. Всевозможные накопления денежных фондов при устаревших производственных
38
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
фондах - это изъятие из активного оборота ресурсов реальной экономики в пользу финансового сектора, да еще и содержащихся в зарубежных активах. По этим основанием мы оцениваем проводившуюся в России экономическую политику, как стратегически неэффективную. Она инерционна, безрискова и удобна для правительства, ибо под рукой на случай кризиса оказалась финансовая соломка, которую и подстелить можно.
Наверное, здесь наступило время высказать свои рекомендации. Нам видятся два варианта активной экономической политики, имеющих стратегическое значение. Они зависят от глубины проникновения кризиса в реальный сектор. Если оправдываются неблагоприятные прогнозы, сравнивающие спад с Великой Депрессией, то надо спасать экономику развертыванием широкого фронта работ по созданию производственной и социальной инфраструктуры и стимулировать реальный сектор расширением внутреннего спроса. В соответствующую программу может быть включено строительство дорог, портов, мостов, жилья, инфраструктуры ЖКХ, городских хозяйств, объектов социального назначения. На эти цели потребуется расходование не только государственных, но и частных и корпоративных накоплений, поскольку речь идет о программе поддержки и развития всей национальной экономики. Вспомним, что подобными методами Рузвельт выводил американскую экономику из той самой Великой Депрессии, причем, не имея накоплений. Он пошел на расширение бюджетного дефицита для стимулирования спроса; стимулировал инвестиции регулированием предельной процентной ставки; вводил государственные гарантии для страхования частных инвестиций и т. д. (Очевидным образом элементы «Нового курса» Рузвельта присутствуют в политике Б. Абамы). Если же метастазы проникновения кризиса в реальный сектор удастся купировать методами монетарной и фискальной политики, не прибегая к чрезвычайным мерам, то надо реализовать, как уже упоминалось, политику инвестиционной технологической экспансии, как общенациональной экономической идеи. По историческому значению она должна быть соизмерима с довоенной индустриализацией, вывести страну на уровень мирового технологического развития, с созданием десятков новых отраслей, изменивших весь экономический облик страны в тот исторический период. Заметим, что и при советской индустриализации не было государственных накоплений. Конечно, индустриализация потребовала ограничений в потреблении ради промышленного накопления. Теперь таких ограничений не требуется. Необходимо мобилизовать
39
Часть 1 Реформы: странное лицо...
государственные накопления, стимулировать частные и корпоративные инвестиции, а для технологий национального экономического значения можно прибегнуть к заемным ресурсам (как внешним, так и внутренним) и бюджетному дефициту. Конечно, это масштабные задачи, но они, как свидетельствует исторический опыт, реализуемы. Альтернативой является вялотекущая политика расходования государственных накоплений. Нельзя считать стратегической политику финансовой подпитки экономики, без ясной промышленной и инновационной программы, да еще и за счет урезания важных расходных статей бюджета, например, на образование.
Остается рассмотреть еще один общий вопрос, который иногда обсуждается в связи с нынешним кризисом, окажет ли влияние нынешний кризис на экономическое мировоззрение и миропорядок? Судя по материалам декларациям G-20, существенных перемен не будет. Там говориться о незыблемости рыночных принципов, хотя и допускается эффективное регулирование финансовых рынков. Но часто высказывались и иные точки зрения, в том числе и руководителями Европейских стран о том, что необходимо фундаментальное реформирование финансовой системы и даже мирового экономического порядка.
Дух и содержание декларации «двадцати» свидетельствует о том, что и данный кризис рассматривается как финансовый. Но если признать его мировым циклическим кризисом, а это уже признается большинством экономистов, то и выводы должны быть иными.
Заслуживают внимания неофициальные мировые форумы ученых и политиков, которые можно назвать альтернативными и даже оппозиционными по отношению к позиции ведущей двадцатки в оценке причин кризиса и перспектив мировой экономики. VI мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» (2008 г.). Форум был посвящен развернутой критике либеральной теории и идеологии. Но по части позитивных предложений отличается мнение канцлера Австрии Альфреда Гузенбаура, который считает необходимым создать международный финансовый институт (организацию) наподобие ВТО для регулирования финансовых рынков. Основная идея состоит в том, чтобы освободиться от мировой долларовой экспансии. Идея выстрадана мировой (неамериканской) экономикой. Но нет пока определенных реальных способов ее реализации. Возврат к аналогам Бреттонвудской системе невозможен в условиях нынешней глобализации экономики. На освобождение от долларовой экспансии направлены и попытки торговать экспортными российскими
40
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
товарами за рубли, в том числе и созданием специальных товарных бирж в России. Правильная, но очень запоздалая идея. Она высказывалась отечественными экономистами на начальной стадии повышения цен на энергоносители. Самый благотворный период упущен.
И все-таки контроль над мировой финансовой системой и даже создание новой финансовой системы - это очень важная проблема, но для мировой экономики она носит частный характер. При всей ее важности она не соответствует уровню нового мирового экономического порядка. Исходя из нашего анализа и оценок, рискнем сделать выводы, которые носят скорее концептуальный, нежели экономически технологический характер.
Альтернативой либеральной модели рыночной экономики можно признать социально ориентированную экономику, высшей целью, которой является рост благосостояния и развитие личности каждого гражданина, а не концентрация сверхбогатства у узкой прослойки группы людей, получивших власть над ресурсами.
Если социально персонифицированным субъектом нынешнего кризиса является финансовый олигархизм (власть и контроль сверхбогатства), то ему может быть противопоставлен социальный субъект массовой самоорганизации производителей реальных благ способный влиять на власть и управление.
Стихийным регуляторам рыночной экономики должно быть противопоставлено регулирование, основанное на современных информационных технологиях.
Глобальному финансовому контролю олигархических групп должна быть противопоставлена политика финансового полицентризма, укрепление и конвертируемость национальных валют.
Идея модернизации России на инновационной основе важная, хотя и запоздалая. Но она еще не конкретизирована до определения комплекса отраслей, стратегически важных для решения данной задачи, определения объема средств, необходимых для реализации данной задачи, и самого механизма реализации. Принципиальным является вопрос о субъекте реализации данной задачи. До сих пор в экономической политике преобладала идея «модернизации снизу». Она подпитывается определенными кругами экономистов.8
На наш взгляд, основным противоречием стратегии модернизации является то, что субъект, инициирующий модернизацию
41
Часть 1 Реформы: странное лицо...
8 Показателен широко обсуждаемый документ Института современного развития «Россия XXI века»
(высшее руководство страны), не обладает достаточными ресурсами, а субъекты, в чьи руки перешли основные ресурсы и денежные потоки, уже давно позаботились о системной модернизации условий своего бытия и едва ли они заинтересованы в системном изменении условий жизни общества.
Если признать в качестве главной цели экономического развития России модернизацию как системное изменение среды обитания, уровня и качества жизни, то в качестве главного выдвигается вопрос о субъекте. Экономические ресурсы в результате радикальных реформ распределены в пользу тех субъектов, которые коренную модернизацию условий своего обитания уже произвели. Насколько их может волновать судьба экономики в целом? Сторонники модернизации «снизу» не отвечают на вопрос о том, почему до сих пор этого не происходит. Ведь краеугольным камнем приватизации было положение о том, будто негосударственные (частная) формы собственности по определению обладают сильным мотивом прогрессивного развития. Общество вправе выдвинуть «модернизационные» требования к тем, кому были отданы государственные (природные и созданные трудом) ресурсы. Именно их обладатели ответственны за выполнение поставленной задачи. Конечно, ресурсами обладает и государство, которое должно их использовать для поддержки инновационно мотивированных субъектов. Но они ограничены. Средства эти должны быть расширены за счет дополнительных источников рентного и монопольного происхождения. Государство, выдвинувшее идею модернизации как общенациональную задачу, должно иметь средства, ресурсы и механизм реализации. Однако, это не разрешение указанного выше противоречия. Предстоят институциональные изменения, которые должны соединить ресурсы инновации с инновационно мотивированными субъектами. Пути и способы решения данной, социально острой проблемы, подлежат дополнительному изучению и обсуждению.
Суть предлагаемой нами альтернативы состоит в следующем. Поскольку нынешний малый цикл (МЦ) образовался до завершения БТЦ, характер протекания и последствия МЦ зависит от влияния на него факторов БТЦ. Силы (факторы), влияющие на МЦ со стороны БТЦ столь значительны, что они подавляют факторы Развития МЦ, и не позволяют осуществиться общим закономерностям экономического цикла, в особенности его инновацтонной составляющей с обновлением основного капитала. Что это за негативные факторы БТЦ? Если кратко, то это основные направления радикальных эко-
42
КЛ. Хубиев
Большой трансформационный цикл.
43
Часть 1 Реформы: странное лицо...
комических реформ, которые, как теперь признают даже многие их адепты, ставили цели политические, а политика выступила средством разрушения прежней экономической системы. Вопросы инновации, модернизации и обновления основного капитала не ставились, хотя без риторики и тогда не обошлось. Утверждалось, например, что передача государственных предприятий в частных руки вызовет к жизни инновационную силу частного интереса и экономика преобразуется. Для убедительности приводились примеры развитых стран с рыночной экономикой. При этом за скобкой оставался тот факт, что в тех образцовых странах частный интерес не был развращен безвозмездной раздачей чужой, незаработанной собственности. Одно дело когда собственность, в любой ее составляющей создается трудом, (в широком смысле) и в конкурентной борьбе, являющейся главным двигателем инноваций и модернизации. Другое дело, когда частная собственность достается без приложения конкурентных и иных усилий. Получив в результате приватизации не только имущество, но и готовые потоки доходов, новые собственники устремились модернизировать условия своего бытия и успешно с этим справляются. С инновациями обстоит гораздо хуже. Приватизационный фактор в числе других угнетает инновационную перспективу экономики России. И выход, как нам представляется, тоже надо исткать в этом же направлении. Высказывая данный тезис, мы не имеем в виду возврат к исходным позициям доприватизационного периода. История не имеет обратного хода, какие бы силы ее не творили. Суть альтернативы в другом.
Государству следует провести акцию, по масштабам соизмеримую с приватизацией, только иной, инвестиционно-инновационной направленности. Все ранее приватизированные предприятия объявляются объектами инвестиционных конкурсов. Победителями этих конкурсов могут быть как собственники, так и сторонние лица. Активы предприятий должны быть перераспределены в пользу инновационно мотивированных и инвестиционно состоятельных экономических субъектов. Им может быть и государство на равных конкурсных правах, если ресурсы потребуются для стратегических задач модернизации. Если победителями конкурсов становятся не собственники предприятий, то в этом случае активы предприятий перераспределяются в пользу новых собственников, а старые собственники получают возмещение в размере средств, потраченных при приватизации. Отдельно должны быть учтены амортизация и присоединенные инвестиции. Стало быть, речь не идет о национализации. Пред-
лагаемая процедура касается только прежде приватизированных предприятий. Она не касается вновь созданных предприятий за счет негосударственных средств. Данная идея, направленная на инновации и модернизацию, не радикальней и не масштабней приватизации, и не менее реализуема, при условии принятия в качестве стратегической задачи на государственном уровне.
Из многочисленных вопросов, возникающих в связи с реализацией данной идеи, обратимся к вопросу о том, кто будет определять победителей инвестиционных конкурсов. Это должен быть коллегиальный орган. В нем должно быть присутствие представителей государственных органов, поскольку процесс должен проходить в нормативных рамках. Но он не должен быть отдан на откуп только чиновникам в силу масштабной коррупции, о чем мы говорили ранее. В коллегиальный орган должны входить представители местного самоуправления, обязательно представители профессиональных сообществ и эксперты, включая зарубежных. Можно обсуждать проблемы практической реализации данной идеи. Но важно обратиться к ее сути. Два десятилетия прошло с тех пор как, проведены реформы, призванные, как тогда заявлялось, облагодетельствовать народ созданием цивилизованной рыночной экономики, которая на основе сил и стимулов частного интереса выведет страну в число экономически развитых стран, а народ к мировым вершинам благосостояния. Ничего этого не случилось. Теперь государству надо совершить новую реформу, сопоставимую по масштабам с приватизацией, только вместо простой смены форм собственности теперь надо провести перераспределение активов в пользу инновационно мотивированных субъектов с вектором модернизационной направленности. Изложенная идея впервые была высказана на научной конференции в Республике Казахстан и нашла отклик на уровне высшего руководства страны. Например, в Алма-Атте в отеле «Риксос-Алматы» в июне 2010 под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева прошло 23-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Приведем фрагменты его выступления.
«Полагаю, что в рамках Программы ФИИР ( форсированное индустриально-инновационное развитие) нам нужно выработать специальные меры по форсированной модернизации всех действующих предприятий страны.
В связи с этим и с учетом уроков глобального кризиса, поручаю Правительству в максимально короткий срок провести полный аудит
44
45
К.А. Хубиев
Большой трансформационный цикл...
Часть 1 Реформы: странное лицо...
эффективности обновления основных производственных фондов всех крупных и крупнейших предприятий Казахстана.
По его результатам нужно приступить к действенным мерам.
Для этого можно, например, объявить открытый Конкурс на лучший Проект форсированной модернизации активов. Для подведения итогов этого Конкурса можно собрать авторитетную независимую комиссию из лучших мировых специалистов.
Проекты, которые победят на этом Конкурсе, будут предложены к практической реализации на каждом из этих предприятий.
Если победителем окажется не собственник актива, то нынешний владелец предприятия должен провести модернизацию в каком-то совладении с автором Проекта или применив другой способ поощрения новаторов.
Правительству в кооперации с инвесторами и объединениями предпринимателей нужно выработать правовые и экономические инструменты стимулирования предприятий к такой ускоренной форме обновления. Сегодняшние вызовы таковы, что мы не можем ждать до тех пор, пока сработают рыночные законы конкуренции. '
Полагаю, что все присутствующие в этом зале искренне заинтересованы в повышении эффективности управления своей собственностью и своевременной модернизации своих активов не меньше, чем мы.
Искренне желаю каждому из вас успехов. Ведь лучшие шансы на победу есть именно у вас, нынешних владельцев этих промышленных активов.
Мы ждем ваших предложений и содействия в модернизации Казахстана.
Следующее заседание Совета иностранных инвесторов можно было бы посвятить этой теме полностью»9. (Жирным шрифтом выделено мной - К.Х.)
Заключение
Два десятилетия - достаточный период времени, чтобы осознать и оценить происшедшее. Не идеологические споры и научные дискуссии, а сама жизнь, реально прожитая миллионами людей, убедила в экономической неэффективности и даже катастрофично-
сти того, что было затеяно и проведено под идеологической завесой либеральных ценностей. Итог: спад производства, сопоставимый с разгромленной и разбомбленной Германией (1945 г.); физическое вымирание населения в результате нужды и нищеты 90-х годов прошлого века; ухудшение качества жизни выжившего населения; сокращение средней продолжительности; безработица и профессиональная деградация экономически активных граждан. Список негативных результатов можно продолжить. Напрашивается один итоговый вопрос: реформаторы призывали народ к радикальным переменам ради блага граждан. Являются ли полученные результаты неожиданностью для самих реформаторов. Факты говорят о том, что часть реформаторской элиты искренне заблуждалась и многие в этом признались. Другие, для которых главной целью был захват контроля над имуществом и особенно потоками доходов, созданных поколениями миллионов советских людей, знали и предвидели основные результаты. И они тоже признавались в том, что главным для них было разрушение прежней системы, перехват власти и введение экономики в «точку невозврата». Добившись своих целей, высшая реформаторская элита создала глубокоэшелонированную систему коррупции чиновников и спряталась за этой пирамидальной опорой новой власти. Появилась прослойка людей, для которой провозглашенные блага свободы и благосостояния были достигнуты. Но за счет ущерба, нанесенного государству и его гражданам. А он столь велик, что напрашивается вопрос об их ответственности типа «экономического Нюрнберга» в масштабе бывшего СССР. Это было бы не только справедливой данью прошлому. Например, после осуждения в Южной Корее двух бывших президентов, как символов ошибочной политики и коррупции, страна встала на путь стремительного развития. А вина корейской элиты перед народом была куда меньше нашей, отечественной. Обществу яснее откроется эффективная стратегия будущего, если она основательно разберется с неэффективным прошлым.
'http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/news
A.B. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
Российская экономическая система по видимости в последнее десятилетие носит характер рыночной. Официальная точка зрения как российских правительственных кругов, так и экономистов западных государственных и межгосударственных структур состоит в том, что Россия - страна с рыночной экономикой.1 В кругу критически настроенных экономистов тема незавершенности трансформаций и специфичности рождающейся системы так же не слишком популярна: они предпочитают говорить о том, что рынок неадекватен национальным и культурным особенностям российской цивилизации. Приведу лишь два характерных высказывания. «... Россия нуждается сегодня не в «рыночно-протестанской реформации», имеющей ограниченные исторические возможности, к тому же слабо согласующиеся с ценностями русской цивилизации»2. «...Современные так называемые рыночные ценности попросту несовместимы с расширенным воспроизводством населения, особенно в России».3 Западные авторы, как правило, акцентируют специфичность российского капитализма, но связывают это опять же со спецификой «российского медведя», только с обратным знаком: не свободный рынок не адекватен российской цивилизации, а Россия неадекватна основным атрибутам цивилизованного бытия, важнейшим инвариантом которого является рынок. Исключение здесь составляет лишь несколько работ неортодоксальных экономистов. Например, Д. Котц утверждает: «Shock therapy's underlying conception of capitalist transition is inconsistent with the economic system which Russia inherited from
47
1 Таково мнение и Президента России Д.А. Медведева (http://www.yuga.ru/ news/149850/), и Министерства торговли США (http://news.bbc.co.uk/hi/ russian/business/newsid_2030000/2030066.st), и экономистов Всемирного банка
(http://www.azerizv.az/article.php?id= 13992).
2 Кульков В.М. Этноэкономический ракурс российского развития // Философия хозяйства, 2000, №6, с.213.
3 Хорев Б.С. Демографическая катастрофа как итог общественного пореформенного развития. // Философия хозяйства, 2001, №6, с. 72.
Часть 1 Реформы : странное лицо ...
Soviet state socialism».4 Такова же позиция Алека Ноува: «Free-market dogma has become an obstacle, the more so as ex-Marxists find "Chicago" neoclassical economics a congenial alternative to their former beliefs. Devotees of this doctrine must face up to the theoretical and practical gap».5
Автор данного текста, написанного в непосредственном диалоге с Андреем Колгановым берется показать, что с теоретической точки зрения система производственных отношений в России 2000-х годов является крайне специфической, сохраняет многие негативные черты советского прошлого, утратив большую часть его действительных достижений (в области социальных гарантий, развития фундаментальной науки, образования, куль туры), но при этом интегрировав в деформированном (мутировавшем от рождения виде) многие негативные черты позднего капитализма.6
Да, в 2000-е годы наша страна вползла в стабилизацию крайне специфической общественной системы, которую для краткости можно обозначить как «капитализм юрского периода» - систему, противоречиво соединяющую в себе феодально-бюрократический произвол, полукриминальный рынок и полуцивилизванные финансовые и сырьевые корпорации. Последние, как динозавры юрского периода, все более подминают под себя всех остальных обитателей этого «парка».
Какова же социально-экономическая анатомия этой системы?
На этот вопрос мы даем ответ, акцентировав марксистскую методологию исследования и, в частности, метод, примененный К. Марксом в «Капитале» и развитый политэкономами СССР7, а так же, в последние десятилетия, А. Колгановым совместно с автором этих строк.8
David M. Kotz &Fred Weir. Revolution from above: The drmise of the Soviet System. London-New York: Routledge, 1997, P. 197.
Alec Nove. Economics of Transition: Some Gaps and Illusions/ Markets, States and Democracy: The Political Economy of Post-Communist Transformation. Ed. By Beverly Crawford. Boulder - San Francisco - Oxford: Westview Press, 1995. P. 244
" Т u
1ермин «поздний капитализм употребляется в том смысле, какой вкладывал в него Э.Мандел. См.: Ernest Mandel. Late Capitalism. Kondon - New York: yerso, 1978.
Soltan Dzarasov. Critical realism and Russian economics // Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(6).
Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: сравнительный анализ экономических систем. Введение. М.: ИНФРА-М, 2005.
48
А В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
В соответствие с логикой развертывания системы категорий «Капитала», автор которого, восходя от абстрактного к конкретному, показал, что капиталистическая система производственных отношений есть, во-первых, товарное производство, во-вторых, определенный способ отношения собственника средств производства и работника (эксплуатация наемного труда капиталом и соответствующие ему отношения капиталистичебской собственности), в-третьих, отношения распределения дохода (заработная плата и прибыль) и, наконец, система отношений воспроизводства и функционирования капиталистической системы.
В данном кратком тексте, представляющем собой обновленный автореферат большой книги9, автор остановится только на первых двух аспектах.
Ряд специфических черт воспроизводства и институциональной системы России можно найти в публикуемой в данной книге тексте моего товарища и соавтора А. Колганова
1. В попытках построить рынок
4
На смену бюрократическому планированию пришли мутации тоталитарного рынка
Разрушение преимущественно планово-бюрократической системы отношений координации (бюрократической планомерности) привело к возникновению сложного комплекса способов координации (распределения или аллокации ресурсов и поддержания пропорциональности).
Во-первых, мощная инерция прошлого обусловливает сохранение некоторых элементов бюрократической планомерности. В результате получается своеобразный переходный вариант свойственного капитализму государственного регулирования, где неоднородные элементы, составляющие переходные отношения, вдобавок еще и деформированы.
Так, свойственные СССР тенденции ведомственности и местничества породили мощный сепаратизм, приведший к образованию полицентричной системы локального бюрократического регулирования; бюрократический характер последнего превратился в самодовлеющий, приведя к почти полному отрыву управляющих подсис-
49
9 Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. М.: ТЕИС, 2003.
Часть 1 Реформы: странное лицо...
тем (разнородных и борющихся друг с другом бюрократических группировок) от интересов выживания экономической системы в целом; блат и плановые сделки развились во всестороннюю коррупцию, широко использующую механизмы прямого и косвенного насилия.
Во-вторых, в этих условиях стали активно развиться дорыночные формы координации (к их характеристике мы еще вернемся).
В-третьих, рынок сложился как система, первоначально в основном подчиненная этим нерыночным или не вполне рыночным (наподобие феодального рынка) формам и потому сам живет в деформированном виде (когда отношения с государством и криминальными структурами для производителя важнее, чем конъюнктура).
Результирующей силой этого «салата» стали преимущественно деформации разных типов рыночных отношений: от примитивных, полуфеодальных до самых современных. При этом доминируют неразвитые, деформированные формы позднего рынка, для каждого характерны мощные монополии, государственное регулирование, интенсивное воздействие глобальной гегемонии капитала и т. п.
Именно в силу этой одной из важнейших закономерностей в области координации (аллокации ресурсов) в трансформационной экономике является необычно большая роль механизмов корпоративно-монополистического регулирования (также деформирован ных по сравнению с их классическим проявлением в странах развитого капитализма). Именно монополизм, опирающийся на силу корпоративно-бюрократических группировок, господствует сегодня в России и странах СНГ, а не абстрактно-мифическая «экономическая свобода», якобы приходящая на смену бюрократическому планированию.
Свобода товаровладельца в трансформационных обществах достаточно иллюзорна. Его поведение здесь детерминируется номенклатурными корпорациями не меньше, чем в прошлом — бюрократическим планом, хотя, конечно, и в прошлом, и ныне эта детерминация существенно варьирует (например, ранее это была разница между «слабым» планом в Венгрии с конца 1960-х годов и «сильным» в СССР 1950-х годов; сейчас — между «слабой» властью монополий в розничной торговле в Польше и «сильной» — в «городах-заводах» II типа Магнитогорска или Череповца в России).
В экономической теории этот механизм, в принципе, хорошо знаком под именем «неполной (монополистической) планомерности» (понятие, введенное в оборот школой политэкономии МГУ),
50
51
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
выступающей в качестве социально-экономической основы действия очерченного Я. Корнай механизма «вегетативного контроля»10.
Еще на заре реформ автор подчеркнул роль этих механизмов, показав, что они качественно отличны как от народнохозяйственного планирования и регулирования, так и от рыночного саморегулирования. Напомним, что в данном случае отдельные институты экономических систем в силу определенных причин (высокий уровень концентрации производства и/или капитала, корпоративная власть и т. п.) получают способность сознательно (но в локальных, ограниченных масштабах) воздействовать на параметры производства поставщиков и потребителей (объем, качество, структура), рынка (цены на продукцию контрагентов, расширение продаж за счет маркетинга), социальной жизни и т. п.
Этот механизм отличен от народно-хозяйственного планирования по своим субъектам, объектам, целям и содержанию (государство, как представитель общества, — обособленная корпорация; национальная экономика — часть (локус) рынка, производства; общенациональный — корпоративный интересы и т. п.). Но он содержательно отличен и от рынбчного механизма саморегулирования, ибо он, будучи многосубъектным и конкурентным (сочетающим экономические и бюрократически-волевые методы борьбы), в то же время является механизмом целенаправленного, сознательного формирования пропорций и аллокации ресурсов со стороны ряда агентов; это механизм, где решение агентов производства (крупнейших корпоративных структур — производителей) формирует его структуру и потребности (спрос), а не наоборот, как это предполагает модель свободного рынка; где спросоограниченная (рыночная) экономика трансформируется в корпоративно-формируемую.
Причины доминирования такого многосубъектного монополистического регулирования экономики достаточно просты: наличие монополизации производства, разрушение старого государственного контроля за корпорациями при слабости нового, неразвитость рыночной конкуренции и т. п. Соответственно, чем сильнее действие названных факторов, тем значимее монополистический контроль, чем слабее (например, в Центральной и Восточной Европе) — тем меньше роль этого механизма координации (аллокации ресурсов).
10 Kornai, Janos, Economics of Shortage. Amsterdam -New York : North-Holland Pub. Co. 1980.
Часть! Реформы: странное лицо...
Как мы уже отметили, не только рынок, но и локальное регулирование развивается в трансформационных системах преимущественно (но не только) в деформированном виде.
Основные черты этих деформаций состоят в следующем.
Во-первых, в качестве субъекта локального регулирования, как правило, выступает не достигший определенного уровня развития персонифицированный капитал, а «обломок» («обломки») бывшей государственной пирамиды (отсюда доминирование сырьвых и иных выросших на базе «гигантогв социалистической индустрии» корпораций в России).
Во-вторых, основой власти этих структур является, соответственно, не столько высококонцентрированный капитал (хотя образование таких капиталов постепенно идет), сколько доступ к тем или иным ресурсам — от близости к государственной кормушке до монопольного использования природных богатств — отсюда, кстати, ассоциация этого механизма с тем, что западные экономисты называют «рыночной властью» или, в иных случаях, «поиском ренты».11 Все это позволяет определить такое воздействие как противоречивое соединение корпоративно-капиталистического контроля и вегетативного регулирования, являющегося пережитком «экономики дефицита» (только «дефицитом» ныне все более становятся государственные кредитно-финансовые ресурсы12).
В-третьих, в силу такого содержания и под воздействием других методов координации, а также общей атмосферы диффузии институтов методы локального корпоративно-бюрократического регулирования так же являются деформацией «цивилизованного» корпоративного воздействия, широко используя как добуржуазные механизмы (внеэкономическое подчинение), так и механизмы, основанные на сращивании с крайне бюрократизированным государственным регулированием.
Проявления господства этого механизма в российской экономике хорошо известны. Например, в той мере, в какой оно существует, экономика «не поддается» радикальным рыночным реформам (их либо саботируют, либо «убирают» реформаторов). Так, в России под
См., например: Anders Aslund. Why Has Russia's Economic Transformation Been So Arduous? http://carnegieendowment.org/1999/04/28/why-has-russia-s-econormc-transformation-been-so-arduous/24q
Последнее обстоятельство так же является основой для квалификации этого способа координации как «поиска ренты».
52
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
определяющим господством псевдо-государственных и псевдочастных корпораций находится система пропорций, динамика цен («ножницы» цен на сельхозпродукцию и ресурсы для ее производства, рабочую силу и потребительские товар), финансы и т. п.
Это не просто олигополистический рынок; это экономика, регулируемая в определяющей степени нерыночным соперничеством обособленных корпоративно-бюрократических структур — этаких «динозавров» капитализма, под ногами у которых «болтаются» все остальные граждане и которых эти монстры безжалостно топчут, при этом, правда, сами находясь в состоянии, близком к вымиранию. Столкновением власти этих «динозавров» и их регулирующих воздействий, а не единым центром (как в прошлом) или «невидимой рукой рынка» (которая, как было показано Дж. Россом, в трансформационной экономике указывает явно не в ту сторону) определяется реальная система координации в трансформационной экономике кризисного типа.
Доминирование локального (вегетативного) управления в трансформационной экономике сочетается, как мы уже отметили, с сохранением модифицированного количественно (оно потеряло свою ведущую роль) и качественно (изменение преимущественно прямых методов на преимущественно косвенные, резкое возрастание разобщенности политики отдельных ведомств) бюрократического централизованного управления.
Вследствие этого рынок в России с самого начала возникает и развивается как подчиненный и деформированный бюрократическим централизованным и корпоративным локальным регулированием компонент трансформационной экономики.
Генезис рынка в силу этого сопровождается неожиданным для индустриальной экономики на рубеже XXI века развитием добуржуазных способов координации. К их числу относятся уже названные механизмы поиска ренты; различные формы насилия — от начального криминального («крыши» и т. п.) до узаконенного (войны — в Чечне и др.), все более широко развивающиеся формы вассалитета (в теневой экономике) и патронажа (в духе позднего феодализма с его иерархией централизованной власти и развивающимся в ее порах рынком), а так же натурально-хозяйственные тенденции." По-
53
Часть 1 . Реформы : странное лицо ...
13 Jeremy Lester. Modern Tsars and Princes: The Struggle for Hegemony in Russia. London: Verso, 1995.
следние проявляются, например, в таких формах, как низкий уровень товарности сельского хозяйства и большая роль производства на приусадебных участках (дачах), развитие произволств-субсти-грутов внутри крупных предприятий, ограничение вывоза продукции за пределы регионов и др.
Развитие добуржуазных форм координации порождается прежде всего факторами, связанными с инверсией социально-экономического времени и трансформационной нестабильностью. В данном случае это, во-первых, инерция и даже высвобождение натурально-хозяйственных связей, раннее «придавленных» централизованным планированием, и ныне не замещенных в должной мере современным рынком. Во-вторых, шоковые реформы, разрушившие плановые связи, но неспособные создать рыночные. В образовавшийся вакуум современных форм координации тут же «втянулись» допотопные: на месте дефицита товаров возник своего рода «дефицит рынка». В-третьих, возникающий деформированный рынок сам воспроизводит добуржуазные способы координации. Последние, следовательно, будут тем сильнее, чем в большей мере инерция кризисного развития прежних тенденций и вновь образовавшиеся деформации рынка будут интенсифицироваться попытками проведения шоковых реформ.
Причина этого, как мы показали выше, в том, что попытки волюнтаристского внедрения рынка в российской экономике ведут не к развитию, а к дефициту эффективных рыночных форм.
Вследствие этого трансформация в экономике России не может быть однозначно охарактеризована как процесс перехода к рынку. При определенных условиях консервация развития на данном этапе трансформации может привести к тому, что не рынок и не план, а корпоративно-монополистическое регулирование (дополняемое инерцией централизованно-бюрократического регулирования и добуржуазными способами координации) останется основным Детерминантом способа координации (аллокации ресурсов).
В этом случае выход из периода трансформационной нестабильности будет связан не с отмиранием «плана» (энергия государственно-бюрократического патернализма сохраняется) и рождением рынка (он в эффективных формах развивается слабо), а с прогрессом деформированных отношений позднекапиталистических способов ко-°РДинации.
54
55
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
Часть 1 Реформы: странное лицо...
Что же касается отдаленной перспективы, то здесь возможен путь не только к рынку, но и к пострыночным отношениям (демократическому учету и контролю, ассоциированному регулированию и программированию развития). Их ростки пробивались на «подготовительном» этапе реформ (в годы горбачевской перестройки), существуют как одно из слагаемых экономической жизни развитых стран. Однако в реальной практике подчас доминирует иная тенденция: движение не к рынку и пострыночным отношениям, а к деформациям «плана» и «рынка» в условиях господства монополистического контроля.
Мутации позднего капитализма или первоначальное накопление капитала?
Мы думаем, что читателю термин «первоначальное накопление капитала» если и известен, то в связи с процессами, про исходившими в XVII—XVIII, может быть, в XIX веках, когда на базе разлагающейся феодальной системы возникло новое буржуазное общество. Процессы эти шли достаточно сложно. В той же Англии — образце буржуазной цивилизации — переход от феодальной монархии к демократической рыночной организации осуществлялся при помощи так называемого «кровавого законодательства», когда всякий, кто не хотел становиться наемным работником, физически принуждался к труду. Более того, за бродяжничество были введены самые жестокие кары, вплоть до виселицы. Это законодательство неслучайно было названо кровавым: страна на протяжении столетия фактически действительно утопала в крови. Именно таким образом развивался капитал в Англии. К этому следует добавить не менее кровавые методы завоевания новых рынков в колониях, в «Новом Свете».
Итак, первоначальное накопление капитала было достаточно жестокой эпохой распада феодальной системы и возникновения новых буржуазных отношений, включающих рынок труда и рынок капитала.
Для нас этот процесс интересен по двум причинам. Во-первых, потому что первоначальное накопление капитала — это период эволюции рынка от своих простейших форм к формам развитым, к тем формам, когда он стал действительно господствующим и всеобщим. Во-вторых, период первоначального накопления капитала — это типичный образец трансформационной экономики, в которой осуще-
ствляется качественное изменение экономических отношений: уход от старых структур и рождение новых.
Можем ли мы охарактеризовать процесс, который будет происходить в отечественной экономике и во многом уже начался, как процесс сходный с первоначальным накоплением капитала? Если строить ассоциации прежде всего на обращении к кровавым средствам и механизмам первоначального накопления капитала, то, пожалуй, такая аналогия покажется правомерной. Единственное, на что приходится надеяться автору, так это на то, что наша страна избежит пути Соединенных Штатов Америки — грандиозной гражданской войны. Тогда, в середине XIX века, попытка торжества более или менее чистой модели буржуазного общества была связана с грандиозной бойней, едва ли не самой кровопролитной войной этого столетия, сопровождавшей процесс преодоления добуржуазных отношений (рабства). Но будем надеяться, что России удастся избежать этого страшного наследия (хотя войны в Чечне, стоившей всем нам десятков тысяч убитых, сотен тысяч беженцев и бездомных, миллиардов долларов ущерба и т. д., мы уже не избежали).
И все-таки главный вопрос — это содержательный вопрос об экономических процессах, которые происходят в российской экономике, и о том, насколько генезис отношений труда и капитала в в ней аналогичен первоначальному накоплению капитала, происходившему на заре буржуазного общества.
Прежде всего, нам хотелось бы обратить внимание на некоторое содержательное сходство. Эпоха первоначального накопления характеризовалась тем, что по мере разрушения организованной иерархически системы, включающей как свой важнейший элемент внеэкономическое принуждение (а именно таким был феодализм), возникал новый тип экономических отношений: свободный наемный работник, лишенный средств производства, — на одном полюсе, собственник средств производства, экономически принуждающий к труду наемного работника (капиталист) — на другом. Этот трансформационный процесс происходит и у нас. И у нас на основе разложения старой иерархически-бюрократической системы формируется класс наемных работников, лишенных средств производства. И у нас возникают новые собственники средств производства, способные их присваивать, экономически отчуждая работников от собственности.
Более того, если мы обратим внимание на насилие, которое сопровождало этот процесс, то даже отвлекаясь от публицистических эффектов и апелляций к гражданской войне, мы должны будем за-
56
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
57
Часть I Реформы: странное лицо...
фиксировать закономерность: первоначальное накопление капитала никогда не осуществлялось без применения насилия — этой повивальной бабки истории. Использование внеэкономических методов развития рынка, аккумуляции капитала, в том числе насилия, осуществляемого бюрократическими методами или методами мафиозно-корпоративного контроля, является важной чертой и нашей отечественной экономики.
Наконец, важным компонентом такого рода перехода является качественное преобразование институтов экономической системы при временном их самораспаде, возникновении своего рода диффузии институтов и возрастании роли неформального регулирования экономической жизни, которое «возмещает» отсутствие легитимных государственных или иных поддерживаемых обществом стабильных форм правового и институционального регулирования экономической жизни. Иными словами, беззаконие является важнейшей характерной чертой первоначального накопления капитала, и это беззаконие и «институциональный вакуум» являются важнейшими чертами первоначального накопления капитала в странах, уходящих от «реального социализма» и в конце XX, а не только в XVIII веке.
В то же время легко зафиксировать целый ряд принципиальные: отличий в осуществлении этого процесса тогда, в условиях перехода от феодализма к капиталистическому обществу, и сейчас, в условиях движения от «реального социализма» к некоторому будущему состоянию (мы надеемся, что его можно будет охарактеризовать как «экономику для человека», хотя, скорее всего, его придется характеризовать как «номенклатурный капитализм»). Эти отличия заключаются в том, что переход осуществляется на качественно ином этапе технологического, экономического и социального развития, в другом глобальном контексте и имеет иные социально-экономические формы.
Отличие материально-технической базы обусловливает особые экономические формы этого процесса. В частности, образование капитала не может идти в примитивных формах его аккумуляции в мелких масштабах с последующим длительным периодом его концентрации. Современные производительные силы, в частности, крупные технологические производственные комплексы, существующие в большинстве бывших «социалистических» стран, требуют уже сегодня огромных по своим масштабам капиталов для «задействования» этих производственных мощностей. Организация их на на-
чалах классического капитализма и личной частной собственности невозможна, ибо требует образования капиталов, невообразимых для периода первоначального накопления. В этих условиях неизбежным станет иной путь формирования экономических отношений товарного производства, взаимодействия работника и собственника. Адекватным, наименее болезненным стал бы вариант, при котором сами работники или граждане становятся сохозяевами и через ассоциированные (коллективную и др.) формы собственности решают проблемы аккумуляции капитала, использования уже имеющихся производственных ресурсов и соединения работника со средствами производства. Но это путь не к капиталистической экономике. Дорога же к «номенклатурному капитализму» обусловила широкое использование в процессе генезиса капитала бывших бюрократических (в том числе государственных) структур.
Следовательно, отличия, связанные не только с материально-технической базой, но и с социально-экономической, а также с социокультурной ситуацией в стране, показывают принципиально иной характер образования буржуазных отношений, рынка капитала и рынка труда в пост-«социалистических» странах (если мы их будем сравнивать со странами, уходившими от феодализма). Иная социокультурная атмосфера касается, в частности, ориентации работника и собственника на другие экономические цели, доминирование у них иных социально-экономических интересов.
Худо или бедно, но мы прошли школу и госкапиталистическо-го найма, и мутантного социалистического коллективизма, и гарантированных занятости, образования, здравоохранения. Безусловно, мы были конформистами и слугами патерналистской системы, но мы не были теми крепостными крестьянами, которыми была подавляющая часть населения в XVIII веке или, если говорить о России, — в XIX веке. Мы были и остаемся людьми, способными хотя бы в незначительных масштабах, к самоорганизации, к защите своих интересов в рамках профсоюзов, и другим функциям, которые были недоступны человеку прошлого. Отсюда возможность Движения от прежней системы не по пути первоначального накопления капитала в его предельно варварских формах, а по пути эволюции к современной социальной экономике, включающей рынок (в том числе рынок труда и капитала) как свои компоненты, но не Доминанты.
Тем не менее, в России эта возможность остается по-прежнему лишь возможностью, а доминирование номенклатурно-капитали-
58
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
стической власти все более становится реальностью. Эту власть получают не только «новые» частные собственники, но и прежде всего слой бывших чиновников, осуществивших обмен привилегий и возможностей контроля за ресурсами (которыми они обладали в прошлой системе) на собственность, становящуюся все более капиталистической по своей сущности в новой системе. Именно этот вариант трансформации прежней власти в новую, номенклатурно-капитали-стическую власть становится наиболее реальной и значимой чертой накопления капитала в трансформационной экономике. Он имеет преимущественно внешнее сходство с мучительным путем перерастания феодально-помещичьей аристократии в буржуазию, являясь прежде всего специфическим превращением, характерным именно для настоящей трансформационной экономики.
Наряду с этим происходит образование и классических «первоначальных» капиталов на базе дифференциации мелких собственников, на основе разорения одних и обогащения других. Этот «обычный» процесс эволюции мелкого товарного производства является дополнением к основному, который мы обозначили как формирование «номенклатурного капитализма», образование капитала, собственником (или как минимум распорядителем) которого становится номенклатура. Точно так же складывается специфический патерналистский вариант отношений между таким частным собственником средств производства и наемным работником (привыкшим, кроме прочего, к коллективному труду и коллективному решению своих экономических проблем, а так же патерналистской опеке со стороны хозяина его труда).
Итак, что же все-таки мы имеем: трагическую пародию на XVIII—XIX века или процесс трансформации мутантного планирования и полулегальных, а частично формальных товарно-денежных отношений, в социализированный, демократически регулируемый рынок, дополняемый развитием пострыночных механизмов? Мы думаем, этот вопрос риторический, ибо по сути дела нам предстоит на него отвечать всей нашей общественной жизнью. Тем не менее, давайте заострим эту проблему и поставим теоретический вопрос: к какому же рынку идет Россия?
Так к какому же способу координации идет Россия?
Автор этого текста вслед за К. Марксом и его последователями не раз писал о том, что рынок — это не некоторый «естест-
59
Часть 1 Реформы: странное лицо...
венный» механизм, обеспечивающий экономическую технологию соединения производителей и потребителей, а форма производственных отношений товарного производства. Последние развивались на протяжении долгих столетий, стали доминирующими (если мерить масштабами всемирной истории) относительно недавно, а ныне достигли состояния «позднего капитализма». Следовательно, в основе классификации типов рынка, в основе определения того, к какому рынку идет Россия, должно лежать описание той системы социально-экономических отношений, которая определяет некоторую модель рынка. Эта система предполагает спецификацию отношений собственности, меру социальной ориентации экономики, степень регулирования рынка, характер и структуру институтов и т. д. Строя таким образом свои аналитические размышления, мы думаем, можем выделить две модели рьшка.
Первая модель — деформированный номенклатурно-корпора-тивный рынок. Этот вариант является наиболее реалистичным, особенно для экономик, возникших на территории бывшего Советского Союза. Де-факто мы уже дали ответ на вопрос, что из себя представляет этот номенклатурно-корпоративный рынок. Давайте суммируем сказанное.
Во-первых, это система отношений собственности, когда на рынке будут действовать прежде всего крупные корпорации, находящиеся в руках прежней и новой номенклатуры, сохраняющей во многом традиции экономического поведения и, главное, тип хозяйствования, характерные для предыдущей бюрократической «социалистической» системы. Формой собственности таких корпораций может быть как акционерная, так и формально государственная. В любом случае, однако, они будут соединены более или менее легализованным контролем со стороны либо официальных, либо мафиозных структур.
Во-вторых, этот рынок будет регулироваться ориентируясь не на интересы общества (единые для всех нас с вами экономические и социальные интересы), а на интересы относительно узких слоев, которые уже доказали в прошлом неспособность обеспечить эффективное социально-экономическое развитие страны. Иными словами, мера социальной ориентации такого рынка будет крайне невысокой, что, в свою очередь, создаст достаточно низкий уровень экономической эффективности рыночной системы, ибо асоциальная экономика в начале XXI века не может быть экономически эффективной.
60
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
Если характеризовать, в-третьих, степень и характер регулирования такого рынка, то оно будет присутствовать, причем в достаточно значимых масштабах. Регулирование номенклатурно-корпоративного рынка будет осуществляться как на государственном, так и на локальном уровне через формальное и неформальное воздействие на рынок со стороны бюрократических институтов государства и крупнейших корпораций-монополистов. Такое регулирование будет вести фактически к подавлению стимулов эффективного развития, характерных как для собственно рыночных механизмов (классический пример — конкуренция, базирующаяся на экономии издержек, повышении качества и достижении других, позитивных с точки зрения общества, результатов), так и механизмов, характерных для пострыночной экономики.
В-четвертых, система институтов этого рынка будет не более чем трансформацией прежней системы, сохраняющей ее сущность — бюрократическое отчуждение институциональной системы от общества, от реальной социально-экономической жизни. Новые же, собственно рыночные институты, возникая, будут «впитывать» в себя сущность прежних, обретая корпоративно-номенклатурное содержание и/или криминальные формы.
При этом для «капитализма юрского периода» характерно широкое развитие не только теневого рынка, но и теневого государственного регулирования. Последнее развивается в различных формах не формализованного воздействия как государственных структур, так и отдельных чиновников (федеральных и региональных) на бизнес, работников, внешние экономические связи и т. п. Это теневое государственное регулирование перераспределяет потоки ресурсов и государственные финансовые ресурсы (бюджетные ассигнования, инвестиции, льготы и т. п.); воздействует на права собственности (покрывая, например, искусственные банкротства, поддерживая или тормозя приватизацию, «корректируя» правила аукционов); обеспечивает получение администартивной ренты и просто взяток, существенно влияя на кадровую политику и т. п. - перечень хорошо известен. Существенно, что это теневое регулирование не всегда является криминальным, но всегда по содержанию вне-законным.
Быть может, автор несколько предвзят в своем критическом отношении к этому пути развития рынка, но кризисные годы, последовавшие вслед за провалом «перестройки» и огромной глубины яма, в которой оказались Россия и другие страны экс-СССР, экстенсивный и зависящий от цен на сырье кратковременный рост
61
Часть 1 Реформы: странное лицо...
2000-х, а так же глубочайший (по сравнению с развитыми странами) кризис 2008-2010 гг. не позволяют нам быть чрезмерными оптимистами.
Вторая модель рынка, о которой мы можем говорить скорее в предположительном или желательном тоне, — это рынок как одна их форм координации (аллокации ресурсов) в социально ориентированной экономике, «экономике для человека». В этом случае предполагается, что субъектами рынка станут преимущественно ассоциированные собственники (предприятия коллективной или государственной собственности при условии самоуправления трудового коллектива), действующие в смешанной экономике, которая кроме ассоциированной, безусловно, будет включать и частную собственность, но не господство собственности номенклатуры и нуворишей.
Что касается меры регулируемости экономики, в случае социального рынка она будет достаточно высокой, более того, на наш взгляд, она будет эволюционировать к постепенному вырастанию пострыночных механизмов регулирования, к которым мы обратимся буквально через несколько страниц.
И самое главное: этот рынок (и в том, что касается его институтов, и в том, что касается его целевой ориентации) будет ориентирован на обеспечение, прежде всего, социально-гуманитарных приоритетов и будет развиваться на основе социально-гуманитарного программирования экономического развития. Соответственно, иными будут основные субъекты рынка: трудовые коллективы и их союзы, ассоциации предпринимателей, профессиональные союзы, экологические и потребительские объединения и, наконец, свободные индивиды.
Завершая характеристику возможных путей развития рынка в России, нам хотелось бы подчеркнуть, что ответ на этот вопрос еще окончательно не найден. Да, с точки зрения рационального мышления, скорее всего будет доминировать первая тенденция, хотя, определенные зачатки «экономики для человека», естественно, будут развиваться, несмотря на противодействия со стороны властей предержащих в странах, принадлежавших к МСС, ибо это в конечном итоге объективная общемировая тенденция. Тем не менее значительная роль в борьбе этих двух ветвей будет принадлежать и экономической науке, которая должна дать достаточные основания для содержательного, обоснованного решения вопроса о том, к какому рынку (и только ли к рынку) движется трансформационная экономика.
62
А.В. Бузгалин
Результаты «реформ» в России: рынок и капитал
Дата добавления: 2019-08-31; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
