Сатирическая журналистика 18 века.
Nbsp; М.Э. Шарапова «История отечественной журналистики» (18-19 в.в.) (Практикум к занятиям по курсу. Часть 1) Владимир 2007
Содержание
| Цель и задачи пособия …………………………………………………………………..
| 3 | |||
| Начало русской журналистики. Журналистика первой половины 18 века………….. | 3 | |||
| Практическое занятие 1 (М.В.Ломоносов)……………………………………... | 3 | |||
|
Сатирическая журналистика 18 века…………………………………………………… | 6 | |||
| Практическое занятие 2 (Н.И.Новиков)………………………………………... | 6 | |||
| Практическое занятие 3 (И.А.Крылов)…………………………………………. | 9 | |||
|
Журналистика конца 18 века…………………………………………………………… | 13 | |||
| Практическое занятие 4 (А.Н.Радищев)………………………………………… | 13 | |||
| Практическое занятие 5 (Н.М.Карамзин)………………………………………. | 17 | |||
|
Журналистика и критика декабристов…………………………………………………. | 20 | |||
| Практическое занятие 6 (К.Ф.Рылеев)………………………………………….. | 21 | |||
| Практическое занятие 6 (С.Муравьев-Апостол)……………………………….. | 23 | |||
|
Русская журналистика и критика 30-х годов 19 века…………………………………. | 25 | |||
| Практическое занятие 7 (А.С.Пушкин)…………………………………………. | 25 | |||
| Практическое занятие 8 (П.Я.Чаадаев)…………………………………………. | 32 | |||
|
Демократическая журналистика второй половины 19 века…………………………..
| 41 | |||
| Практическое занятие 9 (В.Г.Белинский)………………………………………. | 42 | |||
| Практическое занятие 10 (Н.Г.Чернышевский)………………………………... | 46 | |||
| Практическое занятие 10 (Н.А.Добролюбов)…………………………………... | 51 | |||
| Практическое занятие 11 (А.И.Герцен)………………………………………… | 56 | |||
| Практическое занятие 12 (Д.И.Писарев)………………………………………... | 60 | |||
| Практическое занятие 13 (В.С.Курочкин)……………………………………… | 64 | |||
| Практическое занятие 13 (М.Е.Салтыков-Щедрин)…………………………… | 66 | |||
|
Русская журналистика в пореформенную эпоху (60-е – 70-е г.г. 19 века)…………... | 72 | |||
| Практическое занятие 14 (Ф.М.Достоевский)………………………………….. | 72 | |||
| Практическое занятие 15 (Н.Михайловский)…………………………………... | 80 | |||
| Практическое занятие 15 (Л.Н.Толстой)………………………………………... | 84 | |||
Цель и задачи пособия.
История русской журналистики является базовой частью фундаментального образования для студентов-журналистов. Курс ИОЖ призван выявить значение русской печати в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, ее достижения в системе национального просвещения и в социально-политической, культурной жизни страны.
|
|
|
Задача данного учебного пособия – познакомить студентов в рамках теоретической и исторической подготовки журналистов с избранными работами выдающихся русских публицистов, раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая направления и содержание важнейших периодических изданий 18-19 в.в.; а так же – проследить формирование и развитие жанров в периодических изданиях этого периода.
Начало русской журналистики. Журналистика первой половины 18 века.
Началом русской журналистики принято считать 15 декабря 1702 года, когда Петр 1 издал указ о создании печатной газеты «Ведомости», необходимость в которой диктовалась экономическими, социально-политическими условиями.
«Ведомости» стали официальной правительственной газетой, государственным органом, пропагандировавшим петровские преобразования. До 1728 года это издание было единственным периодическим изданием в России. В 1728 году «Ведомости» сменяет одна из самых долговечных русских газет «Санкт-Петербургские ведомости»(издавалась до 1917 года).Тогда же возникают «Примечания…», которые явились первичной формой русского журнала.
|
|
|
«Настоящим» первым русским журналом следует считать «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»(1755 – 1764), созданные по инициативе М.В.Ломоносова. Затем в 1756 году были основаны «Московские ведомости». Все названные издания носили официальный характер, издавались или непосредственно правительством, или правительственными учреждениями (Академией наук, университетом). Но вскоре правительственная монополия на прессу заканчивается: в 1756 году появляются первые частные журналы (преимущественно литературные) А.П.Сумарокова, М.М.Хераскова и др. С появлением этих изданий открывается (сдерживаемая и пресекаемая правительством и цензурой) возможность проникновения в печать оппозиционных настроений, развитие отечественной критики, полемики.
Практическое занятие 1
М.В.Ломоносов
РАССУЖДЕНИЕ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЖУРНАЛИСТОВ
ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ИМИ СОЧИНЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
СВОБОДЫ ФИЛОСОФИИ
| В |
сем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этот! свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы большинства пишущих не превращало писание своих сочинении и ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины.. Отсюда проистекает столько рискованных положений, столько странных систем, столько противоречивых мнений, столько отклонений и нелепостей, что науки уже давно задохлись бы под этой огромной, грудой, если бы ученые объединения не направили своих совместных усилий на то, чтобы противостоять этой катастрофе. Лишь только было замечено, что литературный поток несет в своих водах одинаково и истину и ложь, и бесспорное и небесспорное и что философия, если ее не извлекут из этого состоянии, рискует потерять весь спой авторитет, - образовались общества ученых и были учреждены своего рода литературные трибуналы для оценки сочинений и воздания должного каждому автору согласно строжайшим правилам естественного права. Вот откуда произошли как академии, так - равным образом - и объединения журналов. Первые - еще до того, как писания их членов выйдут в свет - подвергают их внимательному и строгому разбору, не позволяя примешивать заблуждение к истине и выдавать простые предположения за доказательства, а старое – за новое. Что же касается журналов, то их обязанность состоит в том, чтобы давать ясные и верные краткие изложения содержания появляющийся сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения либо по существу дела, либо о некоторых подробностях выполнения. Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы быстрее распространять в республике наук сведения о книгах. Не к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали академии своими усердными трудами и учеными работами, насколько усилился и расширился свет истины со времени основания этих благотворных учреждений. Журналы могли бы также очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них требуется. Силы - чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля — для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. Те, кто, не имея этих талантов и этих склонностей, выступают в качестве журналистов, никогда не сделали бы этого, если бы, как указано, голод не подстрекал их и не вынуждал рассуждать и судить о том, чего они совсем не понимают. Дело дошло до того, что нет сочинения, как бы плохо оно ни было, чтобы его не превозносили и не восхваляли в каком-нибудь журнале; и, наоборот, нет сочинения, как бы превосходно оно ни было, которого не хулил бы и не терзал какой-нибудь невежественный или несправедливый критик. Затем, число журналов увеличилось до того, что у тех, кто пожелал бы собирать и только перелистывать «Эфемериды», «Ученые газеты», «Литературные акты», «Библиотеки», «Записки» и другие подобного рода периодические издания, не оставалось бы времени для чтения полезных и необходимых книг и для собственных размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие читатели охотно пользуются теми из журналов, которые признаны лучшими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, в которых только списывается и часто коверкается то, что уже сказано другими, или такие, вся 'заслуга которых в том, чтобы неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд. Ученый, проницательный, справедливый и скромный журналист стал чем-то вроде феникса.. Доказывая то, что я только что высказал, я испытываю затруднение скорее вследствие обилия примеров, чем их недостатка. Пример, на которой я буду опираться в последующей части этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лейпциге и имеющего целью давать отчеты о сочинениях по естественным наукам и медицине '. Среди других вещей там изложено содержание «Записок Петербургской Академии». Однако нет ничего более поверхностного, чем это изложение, в котором опущено самое любопытное и самое интересное и одновременно содержатся жалобы на то, что академики пренебрегли фактами или свойствами, очень хорошо известными специалистам; между тем выставлять их напоказ было бы просто смешно, особенно в предметах, не допускающих строгого математического доказательства.
|
|
|
Одно из самых неудачных и наименее сообразных с правилами здравой критики извлечений - это извлечение из работ г-на советника и профессора химии Михаила Ломоносова 2; в нем допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы научить3 рецензентов такого сорта не выходить из своей сферы. В начале объявляется о замысле журналиста; оно - грозное, молния уже образуется в туче и готова сверкнуть. «Г-н Ломоносов, - так сказано, - хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты»1.Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права подняться над рутиной и не призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы вечно держать в одной руке щипцы, а в другой тигель и ни на одно мгновение не отходить от углей и пепла?
Затем критик старается высмеять академика за то, что тот пользуется принципом достаточного основания и, по его выражению, истекает потом и кровью, применяя этот принцип при доказательстве истин, которые он мог бы предложить сразу как аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он принял бы их за таковые. Однако в то же время он отвергает самые очевидные положения, считая их чистым вымыслом, и тем самым впадает в противоречие с самим собой. Он издевается над строгими доказательствами там, где они необходимы, и требует их там, где они излишни. Пусть философы, желающие избежать столь разумных насмешек, подумают, как им веяться за дело, чтобы ничего не доказывать и в то же время все-таки доказывать. (...)
Разве не это называется самой настоящей уликой, изобличающей нес недостатки, из-за которых журналист может потерять авторитет и доверие, которые он намерен приобрести у публики? Может ли кто-либо, обладающий хотя бы тенью стыда и остатком совести, оправдывать подобные приемы? Давая таким способом отчет о сочинениях людей науки, человек не только наносит вред их репутации, на которую он не имеет никаких прав, но и душит истину, представляя читателю мысли, совершенно с ней не сообразные. Поэтому естественно всеми силами бороться против столь несправедливых приемов. Если продолжать обращаться таким образом с теми, кто стремится приносить пользу республике наук, 10 они могут впасть в полное уныние, и успехи наук потерпят значительный урон. Это было бы прежде всего полным крушением свободы философии.
Для подобных рецензенток следует наметить надлежащие грани, и пределах которых им подобает держаться и ни в коем случае 86 переходить их. Вот правила, которыми, думается, мы должны закончить это рассуждение. Лейпцигского журналиста и всех подобных ему просим хорошо запомнить их.
I. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить спои силы; Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях, создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать неточные и безвкусные суждения значит сделать себя предметом презрения и насмешки; это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы.
2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть на них как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну.
3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица; вторая — те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными опубликования людьми, соединенные познания которых должны превосходить познания журналиста. Прежде чем бранить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если потребуется, защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в них в систематическом порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо более постыдными, если в них скрываются небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность.
4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это — нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе.
5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последними мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по естественным наукам и медицине.
6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого,—хотя не в этом заключается его прямая задача и его призвание в собственном смысле? Но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые подробности.
7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность.
1 Он имеет заглавие: Commentarii de rebus in scientia naturali et me dicinа gestis (записки об успехах естественных наук и медицины).—
Прим. автора.
2 Ломоносов говорит о себе в третьем лице.
3 Majora quam experimenta sola molitur Michael Lomonosow (Михаил Ломоносов замышляет нечто большее, чем одни только опыты).
(Текст печатается с сокращениями по изд.: Ломоносов М. В. Поли. собр. соч., т, 3. М.-Л., 1952, Изд-во АН СССР, с. 217—232.)
Вопросы и задания
1. Назовите повод для написания Ломоносовым статьи.
2. Как Ломоносов трактует понятие «свобода философии»?
3. Перечислите основные тезисы об обязанностях журналиста; как Ломоносов аргументирует свои положения?
4. Являются ли правила для журналистов, написанные в 1755 году, актуальными и сегодня?
5. Расставьте правила об обязанностях журналистов, предложенные великим ученым, с точки зрения приоритетности для вас лично. Аргументируйте свой порядок.
6. Приведите примеры нарушения современными журналистами кодекса Ломоносова.
7. Значение и роль Ломоносова в развитии русской журналистики.
Сатирическая журналистика 18 века.
Вторая половина 18 века характеризуется усилением власти самодержавия, нарастанием протеста против крепостнического гнета (крестьянская война под руководством Е.Пугачева).Наряду с этим растут оппозиционные, либерально-просветительские настроения в передовых кругах дворянской интеллигенции.
Важную страницу в истории русской журналистики и литературы составляют сатирические журналы 1769-1774г.г.
Екатерина 11 (как когда-то Петр1)пыталась взять управление общественным мнением в свои руки. Начав издавать и собственноручно редактировать первое сатирическое издание – журнал «Всякая всячина», призвав других журналистов следовать ее примеру. Императрица пыталась направить критические настроения в нужное ей русло. Ее призыв был услышан («И то, и сио», «Поденщина», «Адская почта»), но взгляд на сатиру у некоторых журналистов отличался от монаршего. Главным оппонентом Екатерины 11 стал писатели журналист Н.И.Новиков (журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек»), который поднимал болевые вопросы времени: критика дворян, крепостнического режима. Борьба с галломанией, борьба за демократизацию литературного языка. Главный вопрос в охранительной и оппозиционной журналистике – вопрос о характере сатиры: абстрактная сатира «на порок» (Екатерина11) и конкретная сатира «на лицо» (Н.И.Новиков).
В последней четверти 18 века тенденции новиковских изданий продолжают журналы И.А.Крылова («Почта духов», «Зритель»). Он поднимает те же актуальные проблемы, но уже в рамках новых общественно-исторических условий, расширяя средства художественного воздействия.
Практическое занятие 2.
Н.И.Новиков
ТРУТЕНЬ
Лист XXVI. Октября 20 дня
копия с отписки
Государю Григорью Сидоровичу!
Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.
Указ твой господской мы получили и денег оброчных со крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ сто двадцать три рубли двадцать алтын; с деревенских с пятидесяти душ шестьдесят один рубль семнадцать алтын; а в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских двадцать шесть рублев четыре гривны, на деревенских тринадцать рублев сорок девять копеек, да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских сорок три рубли двадцать копеек, а больше собрать не могли: крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумны собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повалилась, а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да и соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходе сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как поволишь? денег не плотит, говорит, что взять негде; он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие робятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатил мир, видя его скудость, а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клети за три рубли за десять алтын, корова за полтора рубли, а лошади у него все пали; другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем; миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут, а робятишек поморить и его вконец разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с ним сам поволишь, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подростут робятишки: без скотины да без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь, тебе бьют челом о завладенной у нас Нахрапцовым земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разоряет и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему господскому собрано тридцать рублев, и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиваться по делу. Нахрапцов на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитью была за мною из города посылка. Меня в отчине тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян в самую работную пору; и я, го  сударь, в город ездил, просил секретаря и воеводу и крестьян наших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублев, воз хлеба да пять возов сена. Нахрапцов попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму; секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: ОН боярин доброй, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось либо он за нас вступится и секретаря уймет, а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступись, государь, за нас, своих сирот: коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят, и Нахрапцов всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невмоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим все тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, а ныне стало уже по в мочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все в конец разоримся; неплательщики все прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресенье и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублев с полтиною да на две избы, по пяти рублевза избу. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался и затем с ним разошелся, взято по указy твоему тридцать рублев. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублев. И он па сходе высечен. Он сказал: Я де ето сказал с глупости, и напредки он тебя, государь, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся раби твои староста Андрюшка со всем миром, земно кланяемся.
сударь, в город ездил, просил секретаря и воеводу и крестьян наших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублев, воз хлеба да пять возов сена. Нахрапцов попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму; секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: ОН боярин доброй, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось либо он за нас вступится и секретаря уймет, а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступись, государь, за нас, своих сирот: коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят, и Нахрапцов всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невмоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим все тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, а ныне стало уже по в мочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все в конец разоримся; неплательщики все прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресенье и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублев с полтиною да на две избы, по пяти рублевза избу. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался и затем с ним разошелся, взято по указy твоему тридцать рублев. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублев. И он па сходе высечен. Он сказал: Я де ето сказал с глупости, и напредки он тебя, государь, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся раби твои староста Андрюшка со всем миром, земно кланяемся.
ТРУТЕНЬ Лист XXX. Ноября 17 дня копия с другой отписки Государю Григорью Сидоровичу!
Бьетчелом и плачется сирота твой Филатка.
По указу твоему господскому, я сирота твой на сходе высечен, и клети мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты в оброк, и с меня староста правит остальных, только мне взять негде, остался с четверыми робятишками мал мала меньше, и мне, государь, ни их, ни себя кормить нечем; над робятишка и надо мною сжалился мир, видя нашу бедность; им дал корову, а за меня заплатили подушные деньги, а то бы пришло последнюю шубенку с плеч продать. Нынешним летом хлеба не сеял, да и на будущей земли не пахал: нечем подняться. Робята мои большие и лошади померли, и мне хлеба достать не на чем и не с кем, пришло пойти по миру, буде ты, государь, не сжалишься над моим сиротством. Прикажи, государь, в недоимке меня простить и дать вашу господскую лошадь-, хотя бы мне мало-помалу исправиться и быть опять твоей милости тяглым крестьянином. За мною, покуда на меня бог и ты, государь, не прогневались, недоимки никогда не бывало, я всегда первой клал в оброк. Нынече пришло на меня невзгодье, и я поневоле сделался твоей милости неплательщиком. Буде твоя милость до меня будет, и ты оботрешь мои сиротские и бедных моих робятишек слезы и дашь исправиться, так я и опять твоей милости буду крестьянин; а как подрастут робятишки, так я и доброй буду тебе слуга. Буде же ты, государь, надо мною не сжалишься, то я, сирота твой, и с малыми моими сиротишками поневоле пойду питаться христовым именем. Помилуй, государь наш, Григорий Сидорович! кому же нам плакаться, как не тебе. Ты у нас вместо отца, и мы тебе всей душой ради служить. Да как пришло невмочь, так ты над нами смилуйся; наше дело крестьянское, у кого нам просить милости, как не у тебя. У нас в крестьянстве есть пословица: до бога высоко, а до царя далеко, так мы таки все твоей милости кланяемся. Неужто у твоей милости каменное сердце, что ты над моим сиротством не сжалишься. Помилуй, государь, прикажи мне дать клячонку и от оброка на год уволить, мне без того никак подняться невозможно; ты сам, родимой, человек умной и ты сам ведаешь, что как твоя милость без нашей братии крестьян, так мы без детей да без лошадей никуда не годимся. Умилосердися, государь, над бедными своими сиротами. О сем просит со слезами крестьянин твой Филатка и земно и с робятишками кланяется.
КОПИЯ С ПОМЕЩИЧЬЕГО УКАЗА
Человеку нашему Семену Григорьеву! Ехать тебе в *** наши деревни и по приезде исправить следующее;
1.
Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.
2.
Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запускал оброк в недоимку, и после из старост его сменить; а сверьх того взыскать с него штрафу сто рублей.
3.
Сыскать в самую истинную правду, как староста и за какие взятки оболгал нас ложным своим докладом? За то. прежде всего его высечь, а потом начать следствием порученное тебе дело.
4.
Старосты Андрюшки и крестьянина Панфила Данилова, по коем староста учинил ложный донос, обоих их домы опечатать и определить караул, а их самих отдать под караул в другой дом.
5.
Естьли ж в чем-либо будут они чинить запирательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.
6.
И как нет сумнения, что староста донос учинил ложной, то за оное перевесть его к нам на житье в село***, буде же он за даль-ным расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.
7.
Сколько пожитков всякого звания осталося после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него, Данилова, взыскать и взять в господской двор, учиня всему тому опись.
8.
Крестьян в разделе земли по просьбе их поровнять по твоему благорассуждению, но при том, однакож, объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, не делая никаких отговорок, оной платили бездоимочно; неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.
9.
Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выпись, и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет на взятье выписи.
10.
В начавшийся рекрутской набор с наших деревень рекрута не ставить, ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров за чиненные им неоднократно пьянствы и воровствы вместо наказанья, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.
11.
За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублев и его перевести к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать с него, опричь штрафных, двести рублев.
12.
По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги, а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок бездоимочно.
13.
Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно; буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты.
14.
За грибы, ягоды и протч. взять с крестьян деньгами.
15.
Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привесть с собою для обучения разным мастерствам. По исправлении всего вышеописанного ехать тебе обратно, а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег
Вопросы и задания.
1. Перечислите основные тенденции в сатирической журналистике 1767-1774г.г.
2. Назовите суть полемики между Екатериной11 («Всякая всячина») и Новиковым («Трутень»). Сатира абстрактная (на порок) и сатира конкретная (на лицо). Значение данной полемики в истории русской журналистики и литературы.
3. Тематическое и жанровое своеобразие сатирических журналов этого периода.
4. Отражение «болевого» крестьянского вопроса в «Копиях с крестьянских отписок» и «Копии с помещичьего указа» Н.И.Новикова.
5. Жанровое и художественное своеобразие «копий».
6. Стилистические особенности произведений Новикова. Как языковые особенности влияют на раскрытие идеи произведений?
7. Просветительская деятельность Н.И.Новикова в 80-е годы. Ее значение в истории русской культуры и общественной мысли.
Практическое занятие 3
И.А.Крылов
Журнал «Почта духов»
ПИСЬМО XIV
От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
Получив вновь повеление от Прозерпины, чтоб при искании модных искусников постарался я как можно скорее доставить ей разных модных уборов, сколько ни было мне досадно сие подтвердительное повеление, напоминающее мне о невозможности возвратиться скоро в ад, однакож, должен непременно выполнить волю своей богини. Для сего выбору вошел я в лавку к одной француженке, торгующей модными уборами, сделавшись невидимым нарочно для того, чтоб без всякого обману узнать, которые уборы были больше в моде. В то время в лавке случилось множество щеголих, выбирающих для себя разные уборы. Сначала я очень обрадовался такому случаю, надеясь от них узнать цену и достоинства сих уборов, и которые из оных были больше в моде и один перед другим предпочтительнее; однакож никак не мог удовольствовать своего любопытства, потому что все они были разных мнений: одна из них больше хвалила токи, другая чепчики, иная шляпки, иная тюрбаны, а иная каски, так что на выборы их я никак не мог положиться и криком своим чуть было они меня не оглушили. Наконец купив каждая что ей было надобно, вышли они все из лавки; модная торговка также ушла в другую комнату, и я, оставшись один, размышлял, какой бы найти способ, чтоб, не обманувшись, узнать, которые уборы предпочтительнее других и в какое время с лучшим успехом могут быть употребляемы, как вдруг услышал, что в шкапу самые сии модные уборы начали между собою разговаривать; а тебе известно, почтенный Маликульмульк, что мы имеем способность слышать и разуметь разговоры всех, даже и неодушевленных вещей. Они спорили между собою о их друг перед другом преимуществе. Разговоры сии показались мне очень забавными; я слушал их с великим удовольствием и почитаю за долг сообщить тебе оные.
Аглинская шляпка
Может ли какой убор быть лучше меня и есть ли что-нибудь на свете прекраснее аглинских мод?
Французский ток
Куда как ты забавна с твоею Англиею! Поверь мне, моя голубушка, что хотя англичане и берут в некоторых случаях преимущество перед французами, однакож то, конечно, не с стороны уборов и хитрых выдумок щегольских мод.
Покоевый чепчик
О чем вы, друзья мои, спорите? Поверьте мне, что между нами нет никакого различия, и мы друг перед другом не можем иметь нималого преимущества, потому что ежели какой головной убор к лицу одной женщины, то к другой он совсем не бывает приличен; все зависит от расположения лица, каким образом убор бывает надет, и от гдаз любовников, ибо женщины желают только нравиться своим любовникам и во всем полагаются на их вкус.
Аглинская шляпка
В этом-то ты больше всего обманываешься: любовникам не нужны излишние уборы, а им нужна горячность сердца; о уборах судит только публика, нежность же модной щеголихи не имеет в оных нималого участия, а действует одно только самолюбие и тщеславие; они-то больше всего ею обладают и располагают ее вкусом. Для 
 нее лестнее привлекать на себя внимание многочисленного собрания, нежели нравиться одному воздыхателю; и главная цель ее нарядов состоит в том, что она желает нравиться многим, а не одному. Это только одно всех женщин побуждает к нарядам, и они очень мало заботятся о том, что скажет им любовник о их уборах; им нет никакой нужды в излишних украшениях для препровождения приятнейших минут с любимым человеком, а напротив того, в любовном свидании лучшим украшением почитаются природные прелести, без всякого искусства в уборах; тут наряды делают только излишнее беспокойство и помешательство.
нее лестнее привлекать на себя внимание многочисленного собрания, нежели нравиться одному воздыхателю; и главная цель ее нарядов состоит в том, что она желает нравиться многим, а не одному. Это только одно всех женщин побуждает к нарядам, и они очень мало заботятся о том, что скажет им любовник о их уборах; им нет никакой нужды в излишних украшениях для препровождения приятнейших минут с любимым человеком, а напротив того, в любовном свидании лучшим украшением почитаются природные прелести, без всякого искусства в уборах; тут наряды делают только излишнее беспокойство и помешательство.
Покоевый чепчик
Однакож со всем тем, госпожа шляпа, ты должна признаться, что некоторые женщины, надев на себя или шляпу, или другой какой головной убор, кажутся другим чрезвычайно смешными, и очень часто тот самый их убор делает их дурными, и для того-то лучше бы было, когда бы всякая женщина старалась избирать такие уборы, которые были бы ей к лицу, а не такие, которые больше в моде, в чем просила бы совета у искренней своей приятельницы, или бы следовала вкусу модных торговок, доставляющих им сии уборы.
Аглинская шляпка
Можно ли положиться на вкус модной торговки! Она всегда больше выхваляет те уборы, которые хочет скорее сбыть с рук! Она, без всякого сомнения, каждой женщине будет говорить, что этот убор к ней ужасть как пристал, хотя бы в нем казалась она совершенным страшилищем.
Покоевый чепчик
Ну, так пусть она полагается на вкус своего хорошего друга, то есть обладателя ее сердца.
Аглинская шляпка
Вот то-то хорошо! Обладатель сердца способен ли в уборах подавать советы, когда всегда судит он о сем пристрастно, наблюдая собственную свою пользу! Ежели он к любовнице своей ревнует, то, конечно, не присоветует ей надеть такой убор, от которого бы она казалась прелестнее, боясь, чтоб она не понравилась многим муж чинам и не привлекла бы на себя их взоры.
Покоевый чепчик
А всего лучше, если она будет советоваться с своим зеркалом.
Аглинская шляпка
Вот другая глупость: советоваться с своим зеркалом! Как это забавно! советоваться с зеркалом! то-то изрядный советник! Есть ли хотя одна и самая гадкая женщина, которую бы зеркало не уверяло, что она довольно хороша?
П о к о е в ы й чепчик
О, постой! что ж бы ты сказала, когда бы она потребовала советов у своих горничных девок, непрестанно ее окружающих, так, как то делают многие здешние щеголихи?
А г л и и с к а я шляпка
Да, это прекрасная выдумка; следуя таким советам, может она надеяться хороших успехов в своих нарядах, чтоб сделаться или совсем гадкою, или не столь пригожею. Сколько раз случалось мне слыхать, что женщина говорила другой женщине: «Ах, как это к тебе пристало— ужасть, ужасть, жизнь моя! Где ты купила этот чепчик? Ах, как он прекрасен!» и проч., а в самое то время внутренно радовалась, что тот убор, в противность ее похвалам, был совсем не к лицу.
Покоевый чепчик
Ну, так пусть делает она то, что хочет.
Французский ток
Ты очень хорошо судишь, будучи по справедливости назван покоевым чепчиком! Ну, можно ли тебе вмеши 


 ваться в наши разговоры? Как тебе с нами ровняться? Мы по крайней мере бываем на позорищах; являемся при дворе и торжествуем на балах. Мы можем себя почитать лучшим украшением для всех щегольских нарядов; но ты, бедняк, ни к какому платью не годишься, кроме как к утреннему дезабилье. С тобою только можно показаться при уединенном завтраке. Тебя надевают без всякой осторожности, так, как накидывают на шею платок, нимало не примечая, каким образом ты надет бываешь. Ты всегда прикрываешь волосы совсем не причесанные, почему никак не можешь ровняться с щегольскими уборами, и не иначе можешь почитаться, как спальным чепчиком; итак, пожалуй, скажи, имеешь ли ты право вмешиваться в наши разговоры?
ваться в наши разговоры? Как тебе с нами ровняться? Мы по крайней мере бываем на позорищах; являемся при дворе и торжествуем на балах. Мы можем себя почитать лучшим украшением для всех щегольских нарядов; но ты, бедняк, ни к какому платью не годишься, кроме как к утреннему дезабилье. С тобою только можно показаться при уединенном завтраке. Тебя надевают без всякой осторожности, так, как накидывают на шею платок, нимало не примечая, каким образом ты надет бываешь. Ты всегда прикрываешь волосы совсем не причесанные, почему никак не можешь ровняться с щегольскими уборами, и не иначе можешь почитаться, как спальным чепчиком; итак, пожалуй, скажи, имеешь ли ты право вмешиваться в наши разговоры?
Покоевый чепчик
Я тебе прощаю, почтенный ток, в твоих грубых и язвительных против меня словах; но ежели, по-твоему, я ни в чем не могу ровняться с вашими достоинствами, то для чего же меня положили в один с вами шкап?
Французский ток
Ведь надобно же тебя куда-нибудь положить; но, находясь в нашем почтенном сообществе, ты должен себя помнить и перед нами молчать.
Покоевы й чепчик (с лукавою усмешкою)
Итак, я замолчу, ибо ежели бы я захотел сделаться нескромным, то мог бы насказать множество любопытных случаев, которым очень часто бывал я очевидным свидетелем и которыми вы никак похвалиться не можете; вы, конечно бы, позавидовали моему счастию. Разумеешь ли ты меня, гордый ток? дерзкий ток? грубый ток? неловкий ток?.. Да знаешь ли ты, что покоевый чепчик бывает свидетелем многих приятнейших приключений, которых тебе никогда видеть не удастся. В любовных уединенных свиданиях не почитают за нужное иметь на голове своей такой щегольской убор, каков ты, господин ток. Тогда почитают тебя самым неловким и скучным украшением и из уважения к тебе не дерзают предаваться приятным и нежным любовным восторгам, чтоб не измять твоих пышных кружев и лент, а потому ты присутствуешь только при скучных и безмолвных свиданиях, в которых соблюдается превеликая благопристойность. Такие тягостные церемонии охлаждают чувства и удаляют сладостное восхищение любви. Но покоевый чепчик! ха, ха, ха! покоевый чепчик! любезный мой ток, нарочно сделан для любовных утех и нимало не препятствует свободнейшему между любовниками обращению. Ежели когда он беспокоит, то снимают его безопасно и кладут на уборный столик; а после опять надевают на себя без всякой осторожности.
Блондовая косынка(во время сих разговоров спит и храпит: хрр, хрр, хрр)
Аглинская шляпка
Вот как спокойно почивает наша любезная соседка; желала бы я и ее вмешать в наши разговоры... (Будит ее.)
Косынка
Ох!.. Кто это?.. Кто это мешает мне спа...а...а... (зевает) а...ать? Я так спокойно спала, а эти глупцы мне помешали; правду говорят, что...
Аглинская шляпка
Ты очень неучтива, что спишь в такое время, когда мы разговариваем о таких важных предметах!
К о с ы н ка
Ну! Что такое, о чем вы говорите? Посмотрим.
Аглинская шляпка
Мы спорим о нашем друг перед другом преимуществе... И каждый из нас доказывает свои права...


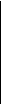 Косынка (сонным голосом)
Косынка (сонным голосом)
Да, это очень хорошо, например, говорить о правах и преимуществах тогда, когда я здесь... Это было еще ваше счастие, что я спала!
Аглинская шляпка, ток и покоевы й чепчик (все вдруг вскричали с сердцем)
Как! Что такое она хочет сказать?
Косынка (с насмешкою)
Да, это нетрудно угадать... Кто из вас может иметь право при мне превозноситься своим достоинством? Вы прикрываете только головы и волосы; но я... какие прелести собою охраняю? Разве я не бываю покровом тем прелестным грудям, которые почитаются гораздо превосходнее тех мест, которые вы собою украшаете?
Покоевый чепчик
О! пожалуй, столько не говори, любезная моя приятельница, и не наговори уже слишком много. Что такое прелести, о которых ты нам с таким восхищением выражаешь!.. Тебя покупают только на то, чтоб ты пышностию своею делала пустой обман, а не для прикрытия прелестных грудей... Поверь, что мне все это довольно известно...
Косынка (захохотав)
Я, сударь! о! я вам божусь, что никакого обмана не делаю, а груди, прикрываемые мною, в самом деле таковы, каковыми я их представляю...
Ш ляпка, покоев ый чепчик и ток (все в один голос)
О, ты совершенная обманщица, госпожа косынка, тебя по справедливости так называть должно!
Косынка (взяв на себя важный вид)
Ну, ну, перестанем горячиться; не ко всякому слову, друзья мои, надобно привязываться... Вы чувствуете сами, что... когда я говорю .. что я не делаю никакого обмана... то это только так говорится... а в самом деле я хотела сказать... что не делаю почти никакого обмана.,. Однакож по крайней мере вы можете признаться, что я более вас приношу пользы Вы все, головные уборы, ни к чему больше не служите, как только для одного украшения, и не охраняете ни от дождя... ни от ветра... ни от холодного воздуха... Но я охраняю прекрасную грудь от простуды, а что еще и того лучше, от дерзких взоров нескромного мужчины... Итак, я бываю защитницею стыда и целомудрия и орудием благопристойности.
Покоевый чепчик
Не верьте ей, не верьте; она лжет... Вот какой делается она набожною! Вот какая притворщица!.. А я со сто раз видал совсем тому противное, что она изволит рассказывать!
Косынка (с досадою)
Как, ты смеешь сказать?.. Ах, какое поношение!.. Как! я не бываю покровом благопристойности?
П о к о е в ы й чепчик (с насмешкою)
Так, моя голубушка, так; тебе, конечно, надлежало бы это делать; но сколько раз видал я, что ты совсем не исполняешь сей должности! Ведь кто имеет глаза, тот; ясно видит, что ты...
Косынка
Ну, посмотрим же, господин прозорливец, что такое ты видел?
Покоевый чепчик (унизив голос)
Не видывал ли я множество раз, что ты открывала свободный путь дерзновенной руке... которая тихо про 

 ходила промежду твоими складками, и ты-то ей позволяла... Ты, как казалось, без всякой упорности допускала откалывать булавку, которою ты была приколота... и утешалась смущением и стыдливостию той красавицы, на которой ты надета и которую при тебе так нагло оскорбляли... По сему малому твоему сопротивлению можно видеть, что ты сама соучаствовала в том малом почтении, которое тогда было ей оказываемо. Итак, скажи теперь, хитрая обманщица, когда пригожая женщина надевает тебя на свою грудь, не говорит ли она тебе: «Я надеваю тебя для того, чтоб ты охраняла меня от стужи и от дерзких покушений воздыхателя?»
ходила промежду твоими складками, и ты-то ей позволяла... Ты, как казалось, без всякой упорности допускала откалывать булавку, которою ты была приколота... и утешалась смущением и стыдливостию той красавицы, на которой ты надета и которую при тебе так нагло оскорбляли... По сему малому твоему сопротивлению можно видеть, что ты сама соучаствовала в том малом почтении, которое тогда было ей оказываемо. Итак, скажи теперь, хитрая обманщица, когда пригожая женщина надевает тебя на свою грудь, не говорит ли она тебе: «Я надеваю тебя для того, чтоб ты охраняла меня от стужи и от дерзких покушений воздыхателя?»
Косынка
Право, ни одна женщина никогда мне этого не говаривала.
Покоевый чепчик
Однакож, без всякого сомнения, каждая красавица с таким намерением тебя на себя надевает.
Косынка
Пусть так, но я зато не берусь, чтоб я одна могла воспротивиться против двух рук, из которых каждая во сто раз сильнее меня. Ежели сама красавица не захочет сделать мне нималой помощи, то как можно требовать от меня, чтоб я одна устояла против сильного приступа? При таком случае сердятся, ворчат, краснеют, усмехаются, притворяются, будто досадуют, будто хотят кричать, и думают, что тем подают мне великую помощь! А я, как вы сами можете посудить, лучше соглашаюсь тогда совсем оставить мое упорство, нежели довести себя до того, чтоб меня разодрали, чтоб сорвали меня с груди и изорвали бы в клочки. Вам легко говорить, друзья мои, но если б вы были на моем месте, то поверили бы, что такое упорство могло бы стоить моей жизни, а вам известно, что всякому своя жизнь всего дорожена свете.
Сей разговор прервался, наконец, приездом многих щеголих, которые закупили всех спорщиков и спорщиц вместе... Графиня купила ток, княгиня аглинскую шляпку, безыменная и вертопрашная кокетка подцепила покоевый чепчик, а актриса взяла косынку, которая повидимому, пойдет вместе с нею на театр играть ролю. Бедные уборы, видя столь близкую разлуку и не имея надежды когда-нибудь увидеться, прощались с такой нежностию и ласкою, каких никогда не оказывают между собою те, кому они достались. По выходе из лавки приезжих щеголих с их покупкою вышел и я, надеясь впредь найтить какой-нибудь способ, узнав совершенно достоинство и преимущество уборов, сделать доставлением их угодность Прозерпине.
Желал бы я, любезный Маликульмульк, как можно скорее исполнить препорученные мне дела и, не занимаясь больше разными пустяками, возвратиться в ад, однакож видно, что мне здесь довольно еще будет дела.
Вопросы и задания.
1. Назовите основную тематику и проблематику сатирической публицистики И.А.Крылова. Продолжение традиций новиковских изданий.
2. Журнал «Почта духов» (1789). Жанровое и композиционное своеобразие издания. Как проявляются реалистические тенденции в журнале Крылова?
3. Прочитайте Письмо Х1У из второй части журнала «Почта духов». Как композиционные и жанровые особенности «работают» на идею письма?
4. Назовите стилистические и художественные приемы, используемые Крыловым (гипербола, сарказм, ирония, умолчание, эзопов язык и др.)?
5. Напишите художественную миниатюру в стилистике письма И.А.Крылова «Диалог (монолог) неодушевленных предметов.
Журналистика конца 18 века.
В последние годы правления Екатерины11 и особенно во времена царствования ее сына – Павла1 – усиливается административный гнет в области печати. По приказу Екатерины11 за его просветительскую деятельность арестован Н.И.Новиков, ужесточается цензура, запрещаются «неугодные» издания, закрываются частные типографии. Но не смотря на это в журналистике усиливается радикализм. Примером может служить публицистическая деятельность А.Н.Радищева, его патриотизм, обличение рабства, требования свободы для народа и высоких нравственных качеств молодых дворян («Беседа о том, что есть сын Отечества»). От Радищева пошла революционно - демократическая линия в русской журналистике – К декабристам, Белинскому, Герцену, Чернышевскому.
С другой стороны в этот период начинается издательская деятельность Н.М.Карамзина («Московский журнал»), который впервые организует «толстый» журнал европейского типа, вводит в издание отдел литературной критика, ведет работу по созданию русского литературного языка.
Практическое занятие 4
А.Н.Радищев
(О САМОДЕРЖАВСТВЕ)
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем неотменно, но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества.
БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА
Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге.
— Вступи и виждь! Кому не известно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею, что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским, или общежительным.
- Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества?
- Он не человек, но что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчестнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, впрочем, обременены тяжестию своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои ничто иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого, работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание заказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? Какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? Какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?
- Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть ничто иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!
- Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сын величественным именем?
Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? не зарытый ли в скверно – прибыточестве, зависти, зловожделении, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? Или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пиянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все домы для бессмысленнейшего пустоглаголания, для обольщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика или, лучше оказать, живописною политрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, - словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко – он щеголь.
- Не сей ли есть сын отечества? — или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми одному ему известными средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, ктосмеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын отечества?
-Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостию, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего, — он умножает свое имение, а сего и довольно. — Итак, не сему ли принадлежит имя сына отечества?
-Или не тот ли, седящий за исполненным произведениями всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюсть-ми своими? Итак, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын отечества, ежели он не в числе сих!
 - Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был прочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.
- Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был прочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.
-Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.
- Всякому врождено чувствование истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу
страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то есть, свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и
славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже.род смертных так, что одна, и притом
гораздо большая часть оных, должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть честь? а другая в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.
- Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечного.
-Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежели б вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается.
- Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снисканию чести и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувствование толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.
- И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к чести и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.
Кто посеял в человеке чувствование сие искать прибежища? — Врожденное чувствование зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине ничто иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратий своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.
-Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению чести, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! Се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостию при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом честолюбив.
- Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбити ближних; ибо единою любовию приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь нимало о воздаянии почести, превозношении и славе, которая есть сопутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемою невечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.
- Истинный человек есть истинный исполнитель всех преду-ставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонравия и тем отнять у отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнию; если же она нужна для отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствования соотечественников своих. Словом, он благонравен! Вот другой верный знак сына отечества!
- Третий же и, как кажется, последний отличительный знак сына отечества, когда он благороден. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любо-честием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинуясь законам и блюстителям оных, предержащим властям, как всего себя, так и всё, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не инако чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оного: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в ее тишине и удовольствии ничего в свете уподобится не может. Ибо истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честию, которая не инде находиться, как в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына отечества!
Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однако ж, не.быть нечисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; 
 применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям: а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.
применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям: а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.
- Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного введен богомудрыми монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!
Вопросы и задания.
1. Общественно-культурная обстановка в России в 90-е годы 18 века. Усиление радикализма в России.
2. А.Н.Радищев – мыслитель-революционер, писатель и публицист.
3. Элементы критического отношения к крепостничеству в журнале «Беседующий гражданин».
4. Статья Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества»
А) тематика статьи;
Б) проблематика;
В) способы решения проблемы;
Г) стилистика и языковые особенности
5. Какие тезисы Радищева актуальны в современной действительности?
Практическое занятие 5
Н.М.Карамзин
ЧТО НУЖНО АВТОРУ?
| Г |
оворят, что автору нужны таланты и знания: острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо: но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении и часто — против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златою одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя.
Если бы небо наделило какого-нибудь изверга великими дарованиями славного Аруэта', то вместо прекрасной «Заиры» написал бы он карикатуру «Заиры». Чистейший целебный нектар в нечистом сосуде делается противным, ядовитым питием.
Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления? Если творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотою, то будь благоразумен, не .безобразь художниковой кисти,— оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего.
Ужели думаете вы, что Геснер2 мог бы столь прелестно изображать невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии любезные черты были чужды собственному его сердцу?
Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого — и если сердце твое не обольется кровью, оставь перо,— или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей.
Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: тогда смело призывай богинь парнасских — они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину - ты не будешь бесполезным писателем - и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу.
Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбки моя не будет его наградою.
Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? — Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие.
Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою ученость и звания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее.
Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором.
(О БОГАТСТВЕ ЯЗЫКА)
Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например меч и лев, имеют пятьсот имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств? В языке, обогащенном умными авторами, в языке, выработанном, не может быть синонимов; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают.
ОТЧЕГО В РОССИИ МАЛО АВТОРСКИХ ТАЛАНТОВ?
Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо французу, то он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного климата». Со времен Монтескье все феномены умственного, политического и нравственного мира изъясняются климатом. «Ah, mon cher Monsicur, n'avez vous pas le nez gele?» '- сказал Дидерот в Питербурге4 одному земляку своему, который жаловался, что в России не чувствуют великого ума его, и который в самом деле за несколько дней перед тем ознобил себе нос.
Но Москва не Камчатка, не Лапландия; здесь солнце так же лучезарно, как и в других землях; так же есть весна и лето, цветы и зелень. Правда, что у нас холод продолжительнее; но может ли действие его на человека, столь умеренное в России придуманными способами защиты, вредить дарованиям? И вопрос кажется смешным! Скорее жар, расслабляя нервы (сей непосредственный орган души), уменьшит ту силу мыслей и воображения, которая составляет талант. Давно известно медикам-наблюдателям, что жители севера долговечнее жителей юга: климат, благоприятный для физического сложения, без сомнения, не гибелен и для действий души, которая в здешнем мире столь тесно соединена с телом.— Если бы жаркий климат производил таланты ума, то в Архипелаге всегда бы курился чистый фимиам музам, а в Италии пели Виргилии и Тассы; но в Архипелаге курят... табак, а в Италии поют... кастраты.
У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других европейских народов; но мы имели, имеем их, и, следственно, природа не осудила нас удивляться им только в чужих землях. Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россеян надобно искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?»
Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно раскрыться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование,— то есть какую-то особенную деятельность душевных способностей,— но и многие исторические сведения, ум, образованный логикою, тонкий вкус и знание света. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6 авторов века Людовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля3, может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот от художника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! Милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности и что светские женщины не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю; но это грубо, несносно!» — Одним словом, французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом.
Бюффон 6> странным образом изъясняет свойство великого таланта или гения, говоря, что он есть терпение в превосходной степени. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по крайней мере без редкого терпения гений не может воссиять во всей своей лучезарности. Работа есть условие искусства; охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта. Бюффон и Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия!
Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностью быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? В России более других учатся дворяне; но долго ли? До пятнадцати лет: тут время идти в службу, время искать чинов, сего вернейшего способа быть предметом уважения. Мы начинаем только любить чтение; имя хорошего автора еще не имеет у нас такой цены, как в других землях; надобно при случае объявить другое право на улыбку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не мешает балам, ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит частое уединение.— Молодые люди среднего состояния, которые учатся, также спешат выйти из школы или университета, чтобы в гражданской или военной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет — без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему. Правда, что он, будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, но может удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество — непременно, по крайней мере в некоторые лета,— но жить в кабинете.
Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России - тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между учеными — более светских людей. Теперь талант образуется у нас случайно. Натура и характер противятся иногда силе обстоятельств и ставят человека на путь, которого бы не надлежало ему избирать по расчетам обыкновенной пользы или от которого судьба удаляла его: так, Ломоносов родился крестьянином и сделался славным поэтом. Склонность к литературе, к наукам, к искусствам — есть, без сомнения, природная, ибо всегда рано открывается, прежде, нежели ум может соединять с нею виды корысти. Сей младенец, который на всех стенах чертит углем головы, еще не думает о том, что живописное искусство доставляет человеку выгоды в жизни. Другой, услышав в первый раз стихи, бросает игрушку и хочет говорить рифмами. Какой хороший автор в детстве своем не сочинял уже сатир, песен, романов? Но обстоятельства не всегда уступают природе; если они не благоприятствуют ей, то ее дарования по большей части гаснут. Чему быть трудно, то бывает редко — однако же бывает,— и чувствительное сердце, живость мыслей, деятельность воображения, вопреки другим явнейшим или ближайшим выгодам, привязывают иногда человека к тихому кабинету и заставляют его находить неизъяснимую прелесть в трудах ума, в развитии понятий, в живописи чувств, в украшении языка. Он думает — желая дать цену своим упражнениям для самого себя,— думает, говорю, что труд его не бесполезен для отечества; что авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить; что все великие народы любили и любят таланты; что греки, римляне, французы, англичане, немцы не славились бы умом своим, если бы они не славились талантами; что достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых писателей; что варварский вкус их есть сатира на вкус народа; что образцы благородного русского красноречия едва ли не полезнее самых классов латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что оно, избирая для себя патриотические и нравственные предметы, может благотворить нравам и питать любовь к отечеству.— Другие могут думать иначе о литературе; мы не хотим теперь спорить с ними.
' Защитник и покровитель невинных, благодетель Каласовой фамилии и всех фернейских жителей имел, конечно, незлое сердце (здесь речь идет о Вольтере.— В. К.).— Прим. автора.
8 Геснер Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт
3 Ах, дорогой мой, вы, кажется, отморозили нос? (франц.).
4 Дени Дидро посетил Петербург по приглашению Екатерины II и жил в нем несколько месяцев в 1773—1774 гг.
5 Как сочинителя единственных сказок. (Карамзин имеет в виду «Нравоучительные рассказы» («Contes moraux», 1761, русский перевод $» 1764), пользовавшиеся большой популярностью.— В. К.).—Прим. автора
'Бюффон Жорж-Луи (1707—1788) — французский натуралист, автор многотомной «Естественной истории».
(Текст печатается по изд.: Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 2. М.—Л., «Художественная литература», 1964, с. 120-122, 142, 183-187,)
Вопросы и задания.
1. Основные тенденции в сентименталистской журналистике конца 18 века.
2. Н.М.Карамзин – основоположник русского сентиментализма. Его роль в развитии русской журналистики и литературы.
3. «Московский журнал» (1791-1792) как образец первого «толстого» русского журнала европейского типа.
А) структура издания;
Б) тематика и проблематика;
В) роль отдела литературной критики;
4. Эстетическая позиция «Московского журнала» и последующих альманахов Карамзина.
5. Статьи Карамзина «Что нужно автору?» и «Почему в России мало авторских талантов?». Тезисы и аргументы, выдвигаемые писателем. Стилистические и языковые особенности статей. Роль Карамзина в создании «среднего» стиля литературного языка.
6. Напишите эссе, используя современный материал, ответьте на вопрос Карамзина «Почему в России мало авторских талантов?» Согласитесь или опровергните данную точку зрения, аргументируя свои тезисы.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 874; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
