Р А К У Ш К А (ДВУСТВОРЧАТЫЙ МОЛЛЮСК)
Э.М.Краних
ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПО МЕТОДУ ГЁТЕ
Книга для учителя и учащихся старших классов
П Р Е Д И С Л О В И Е
В этой книге объединены различные по типу описания животных. Материалы Г.Громана собраны в 1957 г., и в их основу положен длительный опыт общения с живой природой. Будучи естествоиспытателем и педагогом, Г.Громан на протяжении нескольких десятилетий занимался, в основном, миром растений и опубликовал ряд книг, опиравшихся на учение Гете о «метаморфозах». Наиболее весомым творением Г.Громана представляется двухтомный труд «Растение». Эта книга предназначена как для любителей, так и для тех, кто получил ботаническое образование, и помогает в живом созерцании и широком понимании растений. Особую свою задачу этот выдающийся естествоиспытатель видел в том, чтобы и детям открыть глаза, сердца и ум, и научить их понимать живую природу. Так, в 1939 году им была написана «Маленькая ботаника для детей», и восемнадцатью годами позднее «Хрестоматия по зоологии», которая выдержала с тех пор много переизданий и переводилась на разные языки. Несколько глав из нее мы включили в нашу книгу. Они, правда, написаны для детей, но в силу живости созерцания, человеческой теплоты и своих литературных качеств могут послужить образцом для всякого, кто стремится к более тонкому и более сокровенному пониманию животных.
Главы первой части книги адресованы исключительно взрослым. Они были написаны для этой книги с вполне определенной целью. Дело в том, что сейчас существует множество нередко превосходных изображении отдельных животных. Они создают насыщенную картину, касаясь главным образом поведения животных. Образы же животных и, в особенности, их внутренняя организация в большинстве случаев затрагиваются лишь мимоходом. Понимание, которое должно охватить образ, поведение и взаимоотношения животного со средой обитания, и тем самым носить целостный характер, предполагает применение феноменологического метода. Его обоснование дается в главах первой части книги и раскрывается там на примере некоторых животных, которые сами по себе имеют большое значение, так как являются объектами изучения и в процессе преподавания.
|
|
|
Важная задача педагогики сейчас заключается в том, чтобы приблизить детей к природе настолько, чтобы дети приняли в ней деятельное участие, неся за нее и нравственную ответственность. По этой причине необходимо идти путем от изучения (через практическое познание) к пониманию. Теоретическое знание нейтрально, практическое познание носит субъективно-личностный характер, а в понимании человек раскрывает себя другим живым существам настолько, что те могут самовыразиться в нем.
|
|
|
ВОПРОС О ПОНИМАНИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Лаконичная формулировка с правильно расставленными акцентами нередко освещает существо какого-то вопроса лучше всякого обстоятельного объяснения. Так, например, несколько фраз из популярного романа «Имя розы» удачно обрисовывает положение дел с современным познанием. Ученик Эдсон спрашивает у Уильяма Баскервиля - друга знаменитого Уильяма Оккама, - каким образом тот может решить загадку монастырской библиотеки посредством созерцания извне, а не изнутри. Ответ гласил: «Это как с законом мироздания. Бог знает этот закон, потому что он, прежде чем создавать мир, задумал его в своем разуме, то есть измыслил его извне. Мы, люди, этого закона не знаем, так как живем в этом мире и находим его уже в готовом виде.» - «Значит, вещи можно познавать посредством созерцания извне?» - «В принципе это возможно с предметами искусства, так как мы можем воссоздать в своем разуме замысел художника и его действия. Но мы не можем познать предметы природы, поскольку природа не является творением нашего разума» (U.Есо, 1983, с.279 и сл.).
Это достаточно понятно. Творение человека рассматривается не просто в качестве суммы частностей, а можно осознать принцип, из которого оно было создано. Человек в состоянии понять это. А понимать, по Э.Шпрангеру, означает «воспринимать разумность чего-либо существующего в его отношении к целому» (с.197). Таким образом, существующие предметы следует связывать друг с другом не посредством отвлеченной умственной деятельности, но и охватывать в их значении посредством постижения их в качестве звеньев, находящихся внутри какой-то целостной взаимосвязи или внутри целостного существа. Такого постижения в отношении природы вроде бы, не существует. В новых версияхвсё-таки снова слышится та фраза, которая и подвигла Гете на страстные возражения: «Никакому сотворенному разуму вглубь природы не проникнуть!» Вместе с тем кажется, будто эта точка зрения соответствует нашему опыту. Мы знаем, из каких химических элементов состоят вещества, но мы не понимаем, как из взаимодействия этих элементов образуется данное вещество в его целостном виде. Глядя на растение, мы воспринимаем форму побега и его листьев, форму и окраску цветков и плодов, особенности роста и т.п. Растение является нам в качестве суммы различных свойств, но мы не постигаем того, каким образом получается именно такая форма листьев в сочетании с именно такой формой соцветия, кроны, венчика цветка и т.п. Мы воспринимаем образ и его становление, но взаимосвязи этого образа остаются нерешенной, обычно отторгаемой сознанием загадкой. С животными и телом человека у нас получается то же самое. Мы не находим никаких закономерностей, которые позволяли бы отдельным свойствам являться в качестве «разумно предопределенных единым целым», а это, по Э.Шпрангеру, является предпосылкой морфологического понимания (с.199). Поэтому естественные науки пытаются объяснить то, что мы не можем понять, выводя это из взаимодействия элементарных составляющих или описывая это как особый случай проявления закономерностей природы. Когда в прошлом столетии такой подход начал проникать в другие сферы науки, Дж.Дж.Дройзен, а затем главным образом В.Дильтей, оспаривая притязания методологического позитивизма на безраздельное господство, разграничили область научных исследований на две "провинции" - на объяснительные естественные науки и на гуманитарные науки, которые добиваются понимания с помощью герменевтики.
|
|
|
|
|
|
Эта дифференциация не является бесспорной. При более внимательном рассмотрении столь фундаментальное отделение понимания от объяснения может показаться проблематичным (см. на эту тему: Ареl, 1979, Wright, 1991, Hausmann, 1991). Мы также придерживаемся того мнения, что данное разграничение естественных и гуманитарных наук порождает ряд вопросов. Проблемы, однако, сосредоточены главным образом там, где об их существовании совершенно не догадываются. Объяснение выглядит процедурой, которая годится, по меньшей мере, для области естественных наук. Но верно ли это? Ведь, как уже упоминалось, есть вопросы, которые представляются слишком трудными для объяснительного подхода. Действительно ли это обстоятельство связано - как нас пытаются успокаивающе уверять - с тем, что еще сохраняются недостатки в современных способах объяснений? Или же здесь скрывается проблема принципиального порядка? Существуют ли вообще объективные причины, по которым в естественных науках можно подобраться к объяснениям, но не к целостному пониманию, как, например, в сфере литературоведения, в искусствоведении, в исторической науке или в психологии. Не является ли разграничение, избранное герменевтиками, всего лишь выражением различных степеней трудности понимания в сфере естественных и гуманитарных наук, т.е. не является ли это разграничение следствием несовершенства методики естественнонаучного познания? Здесь мы затрагиваем тему, которая имеет особое значение и для педагогики. Дело в том, что отношение человека к объяснениям зачастую отличается от его отношения к тому, что он понимает. Если объясняешь какую-то вещь и при этом не добиваешься понимания, то здесь в первую очередь речь идет о вмешательстве рассудка. Будучи человеком нельзя оставаться в положении «безучастного зрителя» (S.Strasser). Объяснение нередко сопряжено с атмосферой безличной дистанции к предмету. Это ведет нас к той форме школьного и академического обучения, в результате которого «люди могут что-то делать и что-то знать, но не ощущать своей ответственности за степень истинности и за значение познаваемого» (Rumpf, 1986, с.90). При понимании люди находят какую-то связь с существом дела. Возникает единство соприкосновения и проникновенного понимания. Познание обретает личностную значимость. В.Гейзенберг сформулировал это весьма наглядным образом. Он заявлял, что когда для определенных физических явлений находились соответствующие математические каркасы, это не было еще связано с пониманием. Он говорил своему другу Паули: «...я ощущаю себя обманутым той логикой, с применением которой работает эта математическая конструкция. Иными словами, ты можешь также утверждать, что я понял теорию разумом, но не сердцем» (Heisenberg, 1975, с.41 и сл.).
С точки зрения антропологии понимание шире объяснения. Л.Понгратц пишет, например: «Понимание - не отдельная функция, а деятельность всего человека» (1967, с.274). Именно потому для педагогики столь важен вопрос о том, может ли человек достигнуть понимания и в отношении природы. Дело, которому М.Вагеншайн посвятил всю свою жизнь, представляется чрезвычайно заразительным примером того, как учеников и будущих учителей можно подвести к пониманию в математике и определенных областях физики и астрономии. А.Х.Румпф энергично выступает за то, чтобы отношение к вещам не сводилось к линии, проводимой когнитивной психологией Пиаже. Он ратует за то, чтобы подхватывать характерный для раннего детства пронизанный чувствами символизированный опыт окружающего мира и плодотворно использовать его в целях достижения понимания в школе (см. Rumpf, 1987 и 1991).
Для достижения некоторой ясности в этих вопросах обратимся к процессу понимания. Вслед за многими другими возьмем в качестве примера понимание текстов. Человек, читающий книгу, исходит из того убеждения, что нанесенные на бумагу знаки сами по себе не содержат смысла. Эти знаки - лишь предпосылка для осуществления некой умственной деятельности. Опираясь на них, читатель внутренне формирует слова и предложения, а опираясь на языковые формулировки, - образует определенные образы и мысли. Книга содержит лишь внешний отпечаток языка и мыслей. А то, что читатель сам вырабатывает в ходе своей деятельности, может привести к чему-то тому, что обитало некогда, в процессе написания книги в мыслях и внутренней речи автора. При виде мертвых букв в читателе происходит некое возрождение духа автора. Именно поэтому мы можем читать и достигать понимания. При созерцании произведений изобразительного искусства происходит нечто подобное. Оно выходит за рамки того, что поддается фиксации и констатации. Глядя на произведение искусства, мы внутренне воспроизводим его и тем самым учимся это произведение понимать. Дильтей пишет об этом: «Мы именуем пониманием процесс, в ходе которого мы познаем нечто внутреннее по знакам, которые даны нам во внешнем ощущении» (1961, с.318).
Таким образом, становится ясно, в каком смысле здесь говорится о понимании. Законы механики позволяют понять, что определенная последовательность движений вызвана сочетанием определенных условий. Здесь понимание распространяется на взаимосвязь, в рамках которой само действие и производящие его факторы остаются в поле восприятия наших органов чувств. Понимание, о котором ведет речь герменевтика, относится к смыслу и внутренним взаимосвязям, которые лежат в основе совершающихся вовне фактов, но не поддаются обнаружению в сфере нахождения этих фактов. Это подобно жесту. Его можно понять, если увидеть в нем выражение согласия, но такое понимание невозможно, если рассматривать движение рук и ладоней как результат скоординированного сокращения мышц, вызванного электрическими импульсами в эфферентных нейронах.
На пути, ведущем к такому пониманию, необходимо «различать явление от смысла... однако смысл нельзя искать в стороне от явления» (Schaeffler, с. 1632). Если воспринимать только явление, то его смысл, его внутренняя взаимосвязь остаются скрытыми, и понимание отсутствует. Таково, тем не менее, положение дел во многих областях естественных наук. Это можно обнаружить, если вспомнить о том, как, например, формируются общие понятия ботаники и зоологии. В основном здесь придерживаются правил классической логики, касающихся дефиниций - вид определяют по тому, что его относят к какому-либо роду и указывая затем признаки, по которым этот вид отличается от прочих видов данного рода (определение понятий с помощью genus proximum и differentia specifica. Если подобным образом из всей совокупности признаков лошади или дуба выделить специфические, то это происходит все еще в сфере явлений. Речь идет лишь о том, что от богатого восприятия мы переходим к обеднённому представлению о предмете. Признаки, которые составляют содержание такого представления (общего понятия) - суть сумма признаков, между которыми не устанавливается внутренняя взаимосвязь. С помощью этих понятий ничего не постигается - они годятся только для классификации.
Явление растений и животных, к которым относятся и анатомические и физиологические аспекты, - это реальность для естествоиспытателя в области биологии. Разжиженные представления - это его понятия, с помощью которых он упорядочивает данную «реальность». Сознание изгнано в сферу явлений. Проведение научных исследований и формирование теорий происходят именно на этом уровне, Методологические предписания затмевают собой все то, что еще относится к сфере действительной жизни растений и животных. Таким образом, кажется, что своими методологическими ограничениями естественные науки сами забаррикадировали себе путь к пониманию, не замечая того. Это, однако, означало бы, что причины недостаточного понимания кроются не в самих исследуемых вещах.
Как же преодолеть это ограничение горизонта нашего сознания? Этот вопрос встает сегодня в разных формах. Дело в том, что под впечатлением экологических катастроф возникают сомнения в правомерности притязаний нынешних форм естественных наук на монопольное отображение природы. Высказываются подозрения относительно того, что применяемые естественными науками методы неадекватны существу природы. Так, например, К.М.Мейер-Абих требует «преодоления технико-инструментального понимания природы и его замены ... диалоговым пониманием». Следует «вообразить себя ... данным растением или животным», и тогда «в нас станет слышимой их сущность» (1986, с.155) - т.е. станет слышимой их деятельная сущность, которая до сих пор ускользала от прежних методов изучения природы. Когда Мейер-Абих пишет о том, что надо поставить себя на место растений и животных и развить в себе ощущение сопричастности, он приближается к сфере герменевтики, поскольку чувственное проникновение и внутреннее воспроизведение принадлежат именно этому методу. Неясным остается, однако, то, как это осуществлять и как путем диалогового исследования можно добиться достоверного познания.
Правда, одно свидетельство герменевтики самой природы существует на протяжении многих веков. Ведь наверняка выражение «читать книгу природы» представляет собой нечто большее, чем просто поэтическую метафору. Если просмотреть труд Э.Ротхаккера «Книга природы» (1979), то возникает впечатление, что выражение «читать в книге природы» говорит нам об ожиданиях, которые еще в значительной мере не реализованы, и о методе изучения природы, который пока еще слабо разработан. Интересно, какие условия предъявил бы нам метод, ведущий к пониманию природы?
Задача первого шага герменевтического практического познания - подтвердить потребность в толковании исследуемого феномена. Этот этап пройден, ведь мы указали на то, что образы растений и животных остаются загадочными и тогда, когда они объяснены в духе нынешней физиологической и генетической науки. Столкновение с загадкой порождает уверенность в том, что образы живой природы - нечто большее, чем простое их явление, и что в них должно быть нечто вроде скрытого существа. Вот это-то и необходимо «схватить», как, например, смысл написанного текста. Здесь существует, однако, одно предварительное условие - явление растения или животного нельзя более принимать за их полную действительность. Их признаки в определенной мере соответствуют письменным знакам в тексте. Как говорил Гёте, необходимо «воспринимать внешние, видимые, осязаемые части ... в качестве косвенных признаков внутреннего содержании» (1949, с.7 и сл.). В книге природы они выступают именно тем текстом, который и требуется прочитать. Опираясь на явление, следует осуществить умственную деятельность, с помощью которой достигается осознание внутреннего, сущности этого явления - как при чтении достигается осознание смысла текста. Одной из разновидностей деятельности, ведущей в герменевтике от явления к смыслу, выступает внутреннее воспроизведение. Для проникновения во взаимосвязь образа какого-то растения или животного необходимо внутренне воссоздать данное явление и в процессе такого воссоздания осмыслить законы сотворения этого явления.
Теперь мы в состоянии обрисовать метод, чтобы затем продемонстрировать его на конкретном примере. Каждое растение и каждое животное является организмом. Их органы возникают в результате процессов обособления друг от друга в ходе развития организма. Если рассматривать их извне, то они расположены рядом и отдельно друг от друга, но этого нельзя сказать об их функционировании. Дело в том, что процессы жизнедеятельности одного органа оказывают воздействие на другой орган и способствуют его функционированию и жизнедеятельности. Так возникает разнообразное взаимодействие, в результате которого каждый орган становится членом какого-то выходящего за его рамки единого целого. Это влечет за собой важные последствия. Г.П.Вагнер пишет об этом: «Поскольку органы одного организма представляют собой друг для друга такую среду их обитания, в которой каждый орган сопричастен к воздействию на часть среды обитания других органов, то каждая адаптация какого-либо органа к новым условиям окружающей среды, находящейся за пределами данного организма в целом, неизбежно порождает цепную адаптацию в остальном организме» (1986, с.108). Подобная мысль высказывалась и Дж.Бейтсоном: «Индивидуальный организм является комплексной организацией зависящих друг от друга частей. Мутантное или иное изменение генотипа какой-либо из этих частей ... наверняка обусловит необходимость в изменениях многих других частей организма» (1983, с.448). Первым, кто из идеи организма вывел метод познания существ живой природы, был Гете. С его точки зрения, путь к пониманию животных разделен на два этапа. Вначале необходимо выработать общую картину животного организма (на примере млекопитающих). Затем от этой картины, т.е. от изображения типа, можно придти к пониманию различных форм животного мира. Причина в том, что «если нам точно известны части целого, то мы найдем, что разнообразие образа вызвано допущением преобладания той или другой части над другими частями» (Goethe, 1949, с.247). Таким образом, во внутреннем созерцании необходимо воспроизвести то, как особо сильное развитие определенного органа влияет на весь организм в целом, как оказывается стимулирующее воздействие на родственные органы, как отступают в своем развитии противоположные органы и как весь организм приобретает свою специфику от перевеса именно данного определенного органа. Этот метод носит не описательный, а, скорее, эволюционный характер (см. об этом: R.Steiner, 1979, глава «Органическая природа» и Kranich, 1989). Ведь в умственной продуктивной деятельности необходимо воспроизвести то, как под доминирующим влиянием какого-то определенного органа формируется целый организм. Познание является воссозданием и требует значительной продуктивной силы воображения и осмысленности, но также, разумеется, и достаточной компетентности.
Л О Ш А Д Ь
Теперь на примере ряда животных изобразим конкретно путь к пониманию. Начнем при этом с лошади - животного, особенно близкого к человеку. Вряд ли найдется другое такое животное, которое на протяжении тысячелетий столь верно и разносторонне служило бы человеку - будь то на работе в поле, при транспортировке грузов, для передвижения, а также в сражениях и войнах. Это животное отличается благородством фигуры и энергичными движениями, уверенно справляющимися с тяжестью его тела. В силе движений обнаруживаются задатки к выполнению тяжелой работы, к длительному передвижению, а также к артистизму.
Воспользуемся случаем, чтобы напомнить некоторые традиционные пояснения. В соответствии с ними, это животное сформировалось еще до того, как человек включил его в сферу своей жизнедеятельности, и произошло оно от небольшого лесного зверя в результате последовательности случайных мутаций. Из-за этих мутаций. оно превратилось в степное животное с отчетливо выраженными преимуществами, способствующими выживанию. Теперь все это зафиксировано в генетической информации ДНК. И если нынче на свет появляются лошади, то объясняется это именно наличием данной генетической информации. - Если же лошадь воспринимать в совокупности ее образа и поведения, то подобные объяснения покажутся в высшей степени скудными и убогими. Может вспомниться высказывание одного из известных биологов: «Конечно же все мы верим в то, что за любым достижением организма стоят гены. Проблема, однако, по-прежнему заключается в том, каким образом из генетической информации ДНК возникает конкретный организм с его возможностями, а также в том, как этот организм функционирует» (Моhr, 1987, с.925) Носит ли это заявление характер кредо ...? Успехи генной инженерии тоже не решают данную дилемму. Дело в том, что даже генетическое манипулирование не проливает свет на то, как «из ... ДНК развивается ... соответствующий конкретный организм».
Что больше всего впечатляет в лошади, так это сила ее конечностей и ее отнесенность к дали открытого пространства. Дикие лошади обитали раньше в бескрайних степях Украины, России и Центральной Азии. Степной тарпан (южнорусская дикая степная лошадь) еще в прошлом столетии встречался в степях и лесостепи Украины и юга России, а меньшая размером дикая восточная степная лошадь (лошадь Пржевальского) - в районах к востоку от Урала вплоть до Монголии. Там, на монгольско-китайской границе в 1879 г. одному русскому исследователю удалось обнаружить несколько табунов численностью не более 20 голов каждый - жеребца-вожака, несколько кобыл и их жеребята. Они питались жесткими травами этих пустынных равнин. Потомков диких лошадей сейчас можно найти только в зоопарках. Лошади, привычные нам в качестве рабочих или скаковых, - животные домашние. Среди них есть изящные с длинными шеями лошади-чистокровки, крупные легкоупряжные лошади с типичными длинными конечностями и мощной мускулатурой и сильные массивные лошади-тяжеловозы. Их вес колеблется от 400 кг у английской чистокровки до 1200 кг у тяжелоупряжной шайрской лошади - потомка средневекового боевого коня. Гораздо меньший размером шотландский пони весит лишь от 150 до 200 кг.
Конечности лошади отличаются своеобразным строением. Это своеобразие нашло свое выражение в метафоре «лошадь ходит как на цыпочках». Первое впечатление при виде лошади - у нее нет стопы. То, что обычно образует у животных стопу, предстает в совершенно трансформированном виде. Из пяти стрелок полностью сохранилась лишь третья. Плюсна преобразилась в крепкий, вертикально стоящий опорный орган - по типу бедренной кости. Этот тип строения проявляется вплоть до третьего пальца и его формы. Стопа утратила свою расчленённостъ на множество мелких элементов. Из-за усиленного процесса формирования костей стопа преобразовалась в несущий опорный орган. Тип строения верхней части ноги как бы распространяется и дальше - на область стопы. Стопа становится ногой. В результате процесса уплотнения и закостенения на конечностях образуются копыта.
Такое усиленное протекание процессов формирования верхних частей ног обусловливает возникновение конечностей, которые уверенно несут остальное тело. Это видно и в развитии суставов. Они значительно длиннее и прямее, чем, например, у коровы. У последней тяжесть туловища как бы сосредоточена в конечностях, а лошадь преодолевает эту тяжесть и становится потому существом, открытым своему окружению. Силы лошади заложены в ее опорно-двигательной мускулатуре, у которой также имеются свои особенности. В мышцах млекопитающих различают светлые (фазные) волокна, которые служат осуществлению быстрых движений, и темные (тонические) волокна для развития усилия. Мускулатура лошади темно-красного цвета. В ее составе преобладают темные волокна. Мускулатура сосредоточена главным образом в туловище лошади.
Таким образом, туловище и усиленное формирование конечностей создают целостное устройство организма, которое обеспечивает выносливость при переноске тяжестей и импульсивных движениях.
Идти лошадь обычно начинает шагом - даже когда медленно передвигается в поисках корма на выпасе или когда по-настоящему «впрягается» во время работы. Когда же лошадь ускоряет свои движения, то переходит на рысь либо развивает всю полноту своей двигательной энергии в галопе. Тогда никакому другому животному ее не догнать. Даже при галопе туловище остается малоподвижным, а двигательные импульсы и ритм движения проявляются практически только через ноги. Противодействие силе тяжести настолько глубоко заложено в конституции лошади, что она стоя нередко спит или дремлет с закрытыми глазами. Лошадь использует свои ноги и в борьбе. Жеребцы поднимаются на задние ноги и дерутся передними, а кобылы лягаются задними ногами, если не могут прогнать противника своими укусами. Будучи подвижными существами, лошади обладают очень хорошим восприятием пространства. У них довольно быстро складываются навыки движения. Лошадь, как правило, в состоянии отыскать путь, если проходила по нему хоть раз. Всадник, потерявший ориентировку, может опустить поводья, и лошадь сама отнесет его домой. И возница тоже мог бы спокойно спать – лошадь сама везёт повозку по правильному маршруту и останавливается точно в тех местах, где обычно что-то сгружается, например, у каждого молочного магазина.

Силуэт и -скелет лошади
Совершенно очевидно, что на передний план в организме лошади особо проступает именно формирование конечностей. Это можно заметить и на других системах внутренних органов, например, органах пищеварения, дыхания и сердечно-сосудистой системе. Развитие усилия в конечностях требует хорошего дыхания и питания. Поэтому процесс дыхания приобретает у лошади более интенсивней характер, чем обычно у млекопитающих. Это заметно по строению грудной клетки. Из 18 пар ребер необычно большое количество (10 пар) представляют собой ложные ребра, которые в основном и обеспечивают дыхательные движения. К тому же легкие лошади особенно эффективны с точки зрения обеспечения поступления кислорода в кровь. А в крови наблюдается необычно высокое содержание красных кровяных телец, которые разносят кислород по всему организму, а у лошади в первую очередь - в мускулатуру. Кишечник - а его длина составляет около 30 м - и мощная слепая кишка обеспечивают довольно эффективное пищеварение. В условиях тяжелой или интенсивной рабочей нагрузки лошадь съедает за день до 100 кг травы - главным образом в ранние утренние и в предвечерние часы. Лошадь хватает растения губами, откусывает их и перетирает затем своими мощными челюстями. Почти половина этого большого количества корма переваривается полностью. Из-за более интенсивного кроветворения, чем у большинства других млекопитающих, в организме лошади содержится больше крови. Мускулатура поэтому особенно хорошо «дышит» и снабжается питательными веществами. Жизненные процессы, протекающие в туловище, приобретают свою специфику от преобладающего развития конечностей. Из-за усиленного формирования ног и влияния этого процесса на остальной организм лошадь достигает весьма крупных размеров.

Череп с мощными костями челюсти
Когда на пастбище вместе с коровами видишь и лошадей, то на наблюдателя производят впечатление их шеи и манера держать голову. Если говорить точно, шея относится к двигательной системе лошади. Именно благодаря ей голова лошади пространственно отделяется от корпуса и получает возможность более или менее свободно обращать свои органы чувств к окружающему миру. На примере лошади заметно, каким образом специфика конечностей проявляется в формировании шеи, а именно: в мощном развитии позвонков, в уверенной посадке тяжелой головы и в свободе движений. Шея позволяет лошади обрести открытость по отношению к ее окружению. Это видно и по чутким ушам и необычно большим глазам, обладающим широким полем восприятия. Челюсти обычно представляют собой ту часть головы млекопитающих, которая обнаруживает сходство с их конечностями. У лошади же здесь особо впечатляющим образом отражается доминантность формирования конечностей. Челюсти настолько мощны, что прочие части головы во многом оттесняются на задний план. Относительно велика размером лишь дыхательная часть (ноздри и внутренние полости носа), а также пищеварительная часть (полость рта с железами и крепкими зубами). Это соответствует тому, что наблюдалось нами на примере внутренних органов туловища. Глаза и уши сильно смещены назад. По сравнению с усиленным (наподобие конечностей) формированием челюстей совершенно отступает на задний план мозговая коробка, в которой находится мозг.
А как насчет хвоста? У многих млекопитающих хвост (и его движения) играют роль сигнального органа. На хвосте лошади наблюдается особенно интенсивный рост волос, т.е. процесс выделения плотной роговой субстанции. В результате хвост
становится органом, сильно внедряющимcя в окружающее пространство и способным совершать там энергичные движения.
То, что в устройстве организма лошади ноги занимают первостепенное место, видно сразу на примере жеребят. Туловище у них еще короткое и худое. Тонкие ноги доминируют в облике жеребенка даже сильнее, чем у взрослого животного. Противоборство с силой тяжести начинается сразу же после рождения, а роды происходят большей частью в ночное время. Новорожденный сразу же поднимает голову. Еще через четверть часа он пытается встать на ноги. Максимум через час после рождения жеребенок может стоять и передвигаться. После одиннадцати месяцев внутриутробного развития конечности оказываются вполне сформировавшимися. Еще в течение примерно девяти месяцев жеребенок питается материнским молоком, но щипать траву он начинает уже к концу первой недели от роду.
Лошадь можно научиться понимать, если рассматривать ее облик не только извне. Необходимо обратить внимание на процессы развития лошади. Эти процессы следует внутренне воспроизвести, и тогда обнаруживается, что формирование всего устройства организма лошади определяется единым законом. Как при чтении текстов собственное мышление охватывает идеи автора, так и при внутреннем воспроизведении процессов развития животного обнаруживается закон его формирования. Таким образом, животное познается в равной мере и изнутри, т.е. в его сущности.
К О Р О В А
Взгляните на стадо коров, пасущихся на лугу. Они степенно переступают с ноги на ногу и пощипывают травку, а затем лежат и пережевывают свою жвачку, как бы погруженные в самих себя. Если вы проникнитесь их видом, то на вас снизойдет ощущение глубокого покоя. Внешне эти животные малоактивны. Кажется, что большая часть жизненных процессов протекает внутри их организма. Есть животные, за поведением которых необходимо проследить в привычной для них среде, чтобы их понять. Если понаблюдать за коровами таким образом, то можно кое-что узнать об иерархическом порядке в стаде, о социальных контактах животных и их конфликтах. Но эти наблюдения покажутся нам весьма безынтересными по сравнению с соответствующими наблюдениями за тем, что можно увидеть у волков, бобров или горных козлов. К каждому животному необходимо найти свой особый подход, чтобы обнаружить его неповторимые качества.
Сравнивая корову со стоящей рядом лошадью, нельзя не заметить, насколько во всем внешнем облике коровы преобладает ее массивное тело. Голова коровы не столь сильно обособлена от туловища, как у лошади. У коровы, стоящей с поднятой головой, линия короткой шеи как бы продолжает линию спины, идущую явно горизонтально. Вы не заметите в корове ничего, что говорило бы о ее причастности к дали открытого пространства. Ноги у коровы короткие, кряжистые, на них опирается массивное тело. При таком громадном теле, всей тяжестью давящем на конечности, невозможно представить себе быстрые и элегантные движения. Эта громоздкость сказывается на всем строении костей, на сильно изогнутых суставах ног, на тяжелой грудной клетке и шее.
Столь значительный объем телу коровы придают ее органы пищеварения. Каждый ребенок узнает в школе, что у коровы не один, а четыре отдела желудка. Самый крупный из них - рубец - занимает всю левую сторону брюшной полости. Он начинается сразу за диафрагмой и доходит до самой задней части туловища коровы, его объем составляет 150 л. Другие отделы желудка коровы - сетка, книжка к сычуг - имеют меньший размер. Их общий объем вместе с рубцом составляет около 200 л. Ни у какого другого животного желудок не доминирует в организме столь сильно, как у коровы. Каким же образом желудок коровы достиг таких размеров? Собственно говоря, из всех четырех отделов желудка лишь сычуг соответствует собственно желудку большинства млекопитающих и человека. Это видно по его форме. Небольшая часть желудка млекопитающих, непосредственно прилегающая к пищеводу, так называемая Pars oesophaga (пищеводная часть), разрастается у жвачных животных до огромных размеров. Так и сформировались 3 так называемых преджелудка. Вообще, процессы усиленного развития желудка достигают среди млекопитающих своей кульминации именно в развитии желудка коровы.
 книжка
книжка
сычуг
Желудок коровы, вид с права
Именно под этим углом зрения и следует рассматривать корову. Каким же образом укрупнение органов пищеварения сказывается на организме и поведении животного? Каждый знает, что на пустой желудок возникает чувство голода, переходящее в чувство насыщения после приема достаточного количества пищи. Эти ощущения играют в жизни коровы решающую роль. Они проявляются у нее в виде сильного позыва к приему растительной пищи - травы или сена, а также в самоотверженной привязанности коровы к своей пище, что можно наблюдать на пастбище. Кожа над пастью на голове у коровы - твердая и влажная. Насыщенная железами слизистая оболочка, обычно выстилающая ротовую полость, покрывает у коровы и нос, т.е. выходит наружу. Здесь нет обособленности от окружающей среды. К тому же, когда корова пасется, она не рвет губами траву и не откусывает ее зубами. Она захватывает траву своим влажным языком, сразу же ощущая при этом ее вкус благодаря очень тонкой вкусовой чувствительности. Всем своим видом выражая удовольствие, корова наполняет свою пасть травой, а потом заглатывает все разом в рубец. Когда корова пасется на лугу рано утром, то она насыщается травой в течение 2,5-3 часов вышеуказанным способом. После этого в медленно сокращающейся огромной полости рубца начинается процесс переваривания пищи. В процессе пищеварения участвует несметное количество микроскопических одноклеточных организмов. Ведь тому, кто питается листьями и стеблями, необходим эффективный процесс пищеварения для растворения уплотненной субстанции. После наполнения рубца наступает пауза от получаса до часа, а затем начинается второй этап переваривания пищи - процесс жвачки. При этом коровы обычно ложатся на землю - быки чаще, чем телки. Животные как бы еще сильнее погружаются в свое собственное нутро. Теперь переваренная на первом этапе растительная масса попадает малыми порциями из рубца и сетки через пищевод назад, в объёмистую полость рта. Здесь эта масса подвергается ритмическому процессу измельчения в жерновах коренных зубов. Корова пережевывает пищу упорно и методично – каждую порцию пищи более часа, производя при этом челюстями от 49 до 51 жевательных движений. При этом слюнные железы выделяют обильное количество пищеварительного сока. Ротовая полость тем самым как бы превращается в пятый отдел желудка. Об интенсивности процесса переваривания пищи, находящего свое продолжение в голове, свидетельствуют сухие цифры. Коровы пасутся на выгоне около 8-10 часов в сутки. Примерно столько же времени уходит на дремотную жвачку. Разумеется, при этом в отделах желудка и в кишечнике пищеварение не останавливается. Таким образом, корова вся целиком, от головы до пят, предается процессу преобразования поглощенной субстанции. При питании коровы свежей травой, находящаяся у нее в голове, слюнная железа выделяет около 110 л слюны в сутки, а при кормлении сеном - около 180 л слюны. Слюнные железы коровы в четыре раза превосходят по объему ее мозг. Кровоснабжение в голове служит обеспечению процессов слюноотделения даже больше, чем жизнедеятельности головного мозга. Конечно же, корова воспринимает некие впечатления через свои глаза и уши. Из процессов чувственного восприятия для нее, тем не менее, более значимы обоняние и вкусовая чувствительность. Таким образом, головой своей корова в равной мере сориентирована как наружу, так и вовнутрь. Дело в том, что инстинктивное ощущение полезности-вредности растений, а также ощущения вкусового и обонятельного удовольствия-неудовольствия играют для коровы огромную роль.
Подобная ограниченность коровы сказывается и на строении ее черепа. Пищеварение (как процесс распада) противоположно процессу формообразования. Неудивительно поэтому, что процесс формирования зубов у коровы ослаблен. У нее вообще нет клыков, а на верхней челюсти - что особенно важно - у нее отсутствуют резцы. Таким образом, у коровы, как и у прочих жвачных животных, нет того обособления от окружающей среды, которое возникает из-за верхних и нижних резцов. Лобная кость доходит до самой задней части черепа. А теменная и затылочная кости, обычно образующие основную часть мозговой коробки, извне не видны вообще. Примерно в том месте, где они обычно находятся, у коровы в результате отмирания кожи формируются рога, причём кожа на этом участке отмирает, вокруг выступа лобной кости формируется обильно снабжаемая кровью ткани мертвая, роговая оболочка. Здесь внутренняя среда настолько обособлена от окружающей среды, что фактически оказывается подавленной любая связь с внешним миром. О том, сколь велико значение рогов для коровы, свидетельствует, в частности, и тот факт, что лишившееся рогов животное уже не может нормально войти в иерархическую структуру стада.

Силуэт коровы, ее скелет и мощный рубец
Итак, голова коровы состоит в основном из мощных челюстей с огромной ротовой полостью и из носа. Собственно говоря, голова коровы - не совсем голова в полном смысле этого слова. Понятно, что эта часть коровы тесно связана с туловищем и не обособляется от него длинной шеей. Длинные шеи свойственны тем животным, которые живо ориентируются на внешний мир, используя все свои органы чувств.
Позже корова заглатывает пережеванную пищу в следующий отдел желудка - книжку. Здесь пища попадает в пространство, наполненное свисающими вниз пластинками. Эти пластинки всасывают большую часть жидкости и пищеварительных соков из пищи, чем и завершается первый крупный этап переваривания растительной пищи. В сычуге процесс растворения пищи продолжается с помощью новых пищеварительных соков. За сутки их выделяется около 100 л.
Теперь рассмотрим, каким же образом чрезмерное развитие желудка определяет тенденцию развития всего организма по направлению не только к голове, но и к задней части. За сычугом следует кишечник 50-метровой длины. В нем совершается последний этап переваривания и всасывания растворенной субстанции в кровь и лимфу. Оставшаяся часть выделяется из организма. Толстая кишка, как и у других жвачных, - плоская, спиральной формы. Эта спираль насчитывает у коровы лишь 1,5-2 центростремительных витка, а потому развита относительно слабо по сравнению с таковой у коз или овец, у которых насчитывается от 3 до 4 витков). Всасывание воды в ней поэтому тоже слабое. Здесь нет однозначного сдерживания растворительных процессов пищеварения. Кал как бы равномерным потоком вытекает из животного. Тем самым и в задней части у коровы нет ясной обособленности от окружения. Она вписана в свое окружение, в бьющую ключом жизнь природы проще, элементарнее других млекопитающих. Будучи существом пищеварительным, корова обитает прямо посреди своего корма. Она пожирает и удобряет его одновременно.
Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что развитие желудка налагает отпечаток на весь организм коровы. Об этом говорят и многие другие факты, но мы остановимся лишь на некоторых из них. Кровь обслуживает в основном пищеварительный процесс. Для выработки одного литра пищеварительного сока необходимо, чтобы через железы прошло около трехсот литров крови. Затем, правда, существенная часть выделенной жидкости снова всасывается в кровь. И, наконец, в рубце и тонкой кишке кровь всасывает расщеплённые и растворенные субстанции. Они и обеспечивают питание организма. Когда интенсификация пищеварения сопровождается усилением питательного процесса, тело приобретает большие размеры и вес. У черно-пятнистых коров (коров самой распространенной породы) вес телок достигает от 600 до 700 кг, а быков - от 1000 до 1200 кг. Пятнистые (коричнево-белые) коровы крепкого сложения весят от 750 до 1200 кг. А у бурых: коров района Альп и их предгорьев вес телок - достигает от 650 до 750 кг, а быков - от 1000 до 1200 кг.
Большая часть впитанной кровью субстанции вновь преобразуется, попадая в вымя. Для образования одного литра молока необходимо, чтобы через вымя протекло от 300 до 500 л крови.
Молочная корова раз в год обязательно должна телиться. За несколько часов до родов она покидает стадо в поисках безопасного места. После девятимесячного вынашивания там, обычно в ночное время, и появляется на свет теленок. В течение нескольких месяцев он сосет молоко матери. Поначалу желудочные отделы у теленка весьма невелики - у новорожденного рубец почти в два раза меньше сычуга. Но еще в период вскармливания теленок начинает есть и грубую пищу, благодаря чему преджелудки увеличиваются. У трехмесячного теленка рубец больше сычуга уже в два раза.
Благодаря животноводческому искусству молочная продуктивность коров значительно повысилась по сравнению с начальным уровнем. Сейчас одна корова может дать за день более двадцати литров молока. Конечно же, в случае с так называемыми высокопродуктивными молочными коровами пределы допустимого для животных явно превышены. Нельзя унижать корову до роли физиологического аппарата по производству молока.
Образование молока и питание - тесно взаимосвязанные процессы. Во время доения у коровы появляется ощущение жажды и голода. День коровы состоит из поочередной смены процессов приема пищи и пережевывания жвачки, и за один такой день (от раннего утра до позднего вечера) это повторяется четыре раза. Подобные процессы преобразования веществ имеют большое значение и для человека с точки зрения производства молока, а также мяса. Для стороннего наблюдателя они, однако, остаются скрытыми.
Л Е В
Вряд ли какое другое животное почитаемо человеком столь высоко, как лев. Мы восхищаемся его исполинской силой, его поединками с гораздо более крупными животными - буйволами, например, а также его обликом. Спокойная поза льва, слегка приподнявшего голову и устремляющего свой взор вдаль, производит на наблюдателя поистине величественное впечатление. В этом преисполненном сил спокойствии льва он ощутит напряжение энергий тела и сдержанность агрессивных эмоций. Но по лику животного заметно, как они втайне вибрируют в его теле. И стоит льву лишь приоткрыть пасть, как на его физиономии появляется выражение свирепой ярости. На примере льва понимаешь, сколь важно постоянно держать в поле зрения и душевное начало животных при их изучении.
Лев, как известно, относится к отряду хищников. Уже сам по себе характер добывания пищи проявляет определенные внутренние качества. Пасущимися на лугу копытными животными управляет довольно притуплённое инстинктивное влечение к питанию. Смена ощущений голода и насыщения предопределяет регулярный характер процессов приема и переваривания пищи. А добывание пищи у хищников представляет собой весьма драматичное событие. При подкарауливании, подкрадывании или травле, захвате, борьбе и умерщвлении жертвы - весь процесс добывания пищи пронизан массой эмоциональных сил. Если принять во внимание эти влечения, эмоции и страсти, то душевное начало выражено у хищников сильнее, чем у копытных животных. У различных представителей отряда хищников - у куниц и медведей, у собак и гиен, у вивер и кошачьих - это душевное начало проявляется довольно по-разному. В последующих главах мы еще поведем об этом речь. Кошачьи, по мнению Ф.Юлиуса, - наиболее типичные представители отряда хищников (Julius, 1970, с 94).
Эластичное тело - особая отличительная черта кошачьих хищников. Мы с легкостью издали отличим собаку от кошки по характеру их движений. Собаку - по равномерной, несколько жесткой манере бега, а кошку - по текуче-мягким движениям. У кошки более чувствительная поступь, при которой она опирается на подушечки своих лап, т.е. на пальцы. Конечности образуют в суставах отчетливые острые углы. В каждой фазе движения кошки чувствуется живое сочетание напряжения и расслабленности; даже когда кошка останавливается, эта попеременность продолжает вибрировать в ее конечностях. Все тело животного может напрячься или расслабиться всего лишь за одно мгновение. Эта вибрация мускулатуры заметна и во всем теле животного. В костной системе кошки нет и следа той жесткости и механичности, которая столь выпукло проявляется у лошадей и коров. Костная система полностью вписана в подвижность мускулатуры. У кошек относительно короткие конечности, которые сохраняют свою активность и подвижность вплоть до самых своих окончаний; в отличие от лошади и прочих копытных они не обособлены от внутреннего мира животного. Напротив, внутренние возбуждения распространяются до самых кончиков тела - вплоть до подвижных когтей. Своеобразная красота тела, свойственная крупным кошкам, проявляется в эластичности; более других у леопарда, а у льва - в собранности и силе.
Тигры, леопарды и ягуары - неуживчивые одиночки из-за своей агрессивности. Среди крупных кошачьих одни львы ведут стадный образ жизни. У льва более широкая натура и более широкий спектр манер поведения. Это следует учитывать, пролагая путь к пониманию столь значимого животного.
Лев обнаруживает теснейшую внутреннюю связь с теми территориями Земли, где ландшафт сильно прожаривается солнцем - саванной, редколесью и полупустынями (к примеру, Калахари). Стая львов часами лежит там в тени деревьев. Звери спят или наслаждаются теплом в полудреме. Некоторые из них лежат совершенно расслабленно с распростертыми конечностями, другие - слегка приподняв голову и переднюю часть туловища, уставившись перед собой, или на свою стаю. Можно также наблюдать, как две львицы, закрыв глаза, нежно трутся друг о друга головами, целиком отдаваясь приятному ощущению. Может быть, львица вновь возвращается в свой прайд и приветствует сородичей, по очереди прижимаясь к ним всем боком. При этом она медленно скользит своим телом вдоль тела другой львицы, будто желая погладить ее от головы до кончика хвоста. Приятное и вызывающее симпатию ощущение прикосновения играет большую роль. Нередко даже в лежачем положении львицам нужен телесный контакт друг с другом для чувства полного комфорта. В таком весьма инертном состоянии львы проводят около двадцати часов в сутки. Этим они резко отличаются от зебр, гну и антилоп, которые двигаются и находятся в активном состоянии (большую часть времени). Львы, как видно, не относятся к тем животным, у которых конечности выступают определяющими органами.
Порой одна, две или несколько львиц замечают вдали добычу - нескольких гну или зебр. Они встают, и начинается подкрадывание к жертве, что может длиться более часа. Ведь одолеть зебру, гну или антилопу лев может только с близкого расстояния. Лев не травит свою добычу, как, например, гиены или гепарды. Чем ближе львица подкрадывается к жертве, тем больше это подкрадывание переходит в подползание. С расстояния порядка 30 метров львица резко срывается с места, и бросается на жертву сильными и быстрыми прыжками. Львы умеют и подстерегать добычу. Для этого они неподвижно поджидают ее, хорошо спрятавшись. Бывает, это длится по нескольку часов. Иной же раз охота проводится по стратегическому плану, когда несколько львиц залегают и прячутся в траве, а остальные подкрадываются к зебрам или антилопам с другой стороны, а затем загоняют их в засаду.
Чтобы убить свою жертву, львица запрыгивает сбоку или сзади ей на спину и старается опрокинуть ее своим весом на землю. Тогда она прокусывает ей дыхательное горло или разрывает ей сонную артерию - жертва задыхается или же мгновенно теряет сознание. Иногда львица всаживает свои могучие клыки между двумя шейными позвонками и разрывает спинной мозг в шейном отделе позвоночника.
Вскоре у туши собирается остальная стая, в том числе и самцы. Они крайне редко участвуют в охоте – скорее они отнимут добычу у гепарда или гиены. Самцы крупнее и тяжелее львиц. Из-за большей массы тела их волевой потенциал мощнее, чем у самок. Благодаря меньшим размерам самки более подвижны и больше расположены к охоте. У добытой туши львицы отступают перед силой самца. В противном случае их весьма бесцеремонно оттесняют. Вообще, львы нередко ведут себя довольно агрессивно у добычи. Львицы обязаны уступать львам, а молодые животные - взрослым самкам. Последними по рангу оказываются малыши. Здесь безжалостно правит бал эмоционально-агрессивная сущность льва и право сильного. Голод и жадность доводят эмоции до накала.
Львы съедают сначала мускульные ткани своей жертвы. Некоторые животные едят и внутренности. Не трогают только желудок. Установлено, что изголодавшийся самец в состоянии съесть за один раз до 45 кг мяса, а самка - до 30 кг. После трапезы львы обычно отправляются на водопой - к ближайшей реке, озеру или луже. Здесь уже царит мирное настроение сытости.
Вслед за этим всплеском эмоций и страстей вновь наступает фаза приятных ощущений, фаза расслабленности. Жизнь льва как раз и определяется подобным чередованием состояний высочайшего напряжения сил и эмоций и состояний блаженства раскованной расслабленности, а также множества промежуточных состояний.
В различных районах львы охотятся в разное время суток. Обитая в местности с обилием кустарников, предоставляющих хорошую возможность прятаться, животные отправляются на охоту, как правило, днем; на открытой же местности они чаще охотятся ночью. Львы прекрасно видят в темноте, у них также хороший слух и превосходное чутье. В безлунные ночи охота успешнее, чем при луне. С особой силой создают у львов охотничье настроение надвигающиеся грозы. Грандиозные разряды в атмосфере возбуждают эмоции льва с такой интенсивностью, что он убивает даже больше животных, чем требуется для насыщения.
К наиболее выразительным проявлениям льва относится его рез. Лев подает свой могучий голос вечером - до или после захода солнца. Он выплескивает свою звуковую энергию в ритмичной последовательности и во все более низких тонах. Это напоминает извержение вулкана, только здесь вместо паров и лавы в пространство выбрасываются эмоции. «Если, уж какой звук и подходит под определение «продирающий до мозга костей», то это - раздающийся неподалеку рев львиной стаи ночью в кустарниках африканской саванны. Глухие раскаты разрывают ночную тишину африканской саванны неожиданными ударами грома. Если рев раздается с расстояния всего пары сотен метров, то кажется, будто львы стоят прямо рядом с вами. Удивляешься только, что от этого не вибрируют стены палатки и не опрокидываются вещи» (W.u.H.Hagen, 1992, с.42-43). Рев льва наполняет окрестности примерно в радиусе 16 км.
В этом реве нам открывается та мощь эмоций, которая обитает в этих животных. У самок это проявляется реже, а также с меньшей силой, чем у самцов. Кое-что из этой энергии они отчуждают наружу. И тем самым они, видимо, в известной степени освобождают и себя, подобно человеку, у которого после вспышки гнева наступает душевное облегчение. Ведь может быть, что у других крупных кошачьих - у тигра, пантеры и ягуара - соответствующая энергия скована организацией этих существ. Ведь и движения их больше, чем у льва, наполнены агрессивной энергией, а в рисунке их шерсти, как на картине, отражаются проблески или сосредоточения внутреннего возбуждения. Лев же более спокоен в своей осанке, своих движениях и окрасе. Не из-за своего ли рева он и способен - единственный из крупных кошачьих - жить в сообществе с другими. Тот, кто сам испытывает эмоциональные взрывы в громком крике, будет склонен к утвердительному ответу на этот вопрос.
Жизнь в львином стаде течет не столь однообразно, как можно было бы заключить из вышеизложенного. Стадо обычно состоит из двух-трех самцов, 5-10 самок и их детенышей. Ни у самцов, ни у самок нет никакой иерархии, наблюдаемой, как правило, у других и стадных животных. Равенство царит в обеих группах стада этих царственных животных. Даже если в каком-либо конфликте одна из львиц одерживает верх над другой, это никак не сказывается на их дальнейшем сосуществовании. И, тем не менее - господствуют в стаде самцы, хотя самки во многом более активны. Львицы образуют стабильное ядро стада. Обычно с интервалами в несколько лет группы пришлых молодых самцов пытаются захватить стадо. После бурных и жестоких схваток эти возмутители спокойствия все же прогоняют прежних хозяев. Теперь им приходится завоевывать расположение самок, которые поначалу агрессивно отвергают пришельцев. Спокойствие устанавливается вновь лишь после многодневных драматичных и бурных конфликтов. К этому времени новые львы истребляют все молодое потомство. Львицы лишились своих детенышей, им некого теперь вскармливать своим молоком. Они приходят в возбуждение. Завоеватели добились своего и положили начало новой эре. Таким образом, в жизни стада с длительными интервалами происходит чередование скоротечных фаз крайне бурных агрессивных схваток и продолжительных фаз преимущественно спокойного сосуществования.
Перед родами львица отделяется от стада и отправляется на поиски безопасного места среди колючего кустарника, в зарослях или в пещере. Там она после 100-116 дней беременности производит на свет обычно двух-трех, реже четырех львят. Поначалу они весьма беспомощны. Глаза открываются, судя по всему, не раньше, чем в недельном возрасте. В течение шести недель они кормятся исключительно материнским молоком. Потом они начинают есть и мясо. Тогда львица возвращается в стадо со своими детенышами. Она терпеливо и с любовью относится ко всем их проделкам и живым играм. Другие львицы тоже очень дружелюбны. Если у них есть свои детеныши, то пососать молока разрешается даже чужим малышам. Настоящая львиная жизнь постепенно начинается с четырехмесячного возраста, когда прорезаются первые клыки. Тогда этих маленьких несмышленышей начинают брать на охоту. Однако к активному участию в охоте львята приступают примерно в годовалом возрасте - после появления коренных зубов. Мужское потомство живет в материнском стаде чуть свыше трех лет. Потом они покидают стадо и рыщут небольшими группами по саванне. Позднее они, быть может, создадут собственный прайд. К шести годам львы достигают своего полного роста, к этому же возрасту у самцов вырастает грива.
Очевидно, что сквозь всю жизнь львов проходит некая закономерность, проявляющаяся во многих вариациях. Один из исследователей, который многие десятилетия изучал львов в различных регионах Африки, ставит в одной из своих книг вопрос: «агрессивны или миролюбивы...?» Лев - животное большой широты своего внутреннего существа. Здесь можно найти как полностью расслабленную отрешенность, так и уютное блаженство и нежность, невозмутимость и напряженное спокойствие вплоть до возбуждений недовольства, находящих свое выражение, в частности, в рычании, а также вплоть до ярости и дикой агрессии. А жизнь льва - это ритм, это качающийся маятник, постоянно чередующий отклонения то в одну сторону, то в другую. Каким же образом это своеобразное бытие льва коренится в устройстве его организма?
Мышечная система связана и с внутренними органами, прежде всего с системой кровообращения. Кровь не только насыщает мышцы кислородом и снабжает их питательными веществами. Она пульсирует в артериальной части кровеносной системы ритмов сердца. А этот ритм тесно связан с ритмом дыхания. В организме льва между этими ритмами царит особая гармония. В спокойном, невозбужденном состоянии взрослый лев совершает 10 вдохов и выдохов в минуту, а его сердце - 40 ударов (Flindt, 1985, с.82 и 66); таким образом, соотношение этих показателей равно 4. На особое значение ритмично пульсирующих органов в организме льва указывают и другие факты. Доля легких в общем весе тела составляет, к примеру, у лошади 0,70%, у коровы - 0,72%. У льва же она равна 2,12%, что выше, чем почти у всех прочих млекопитающих (Flindt, 1985, с.80). Доля сердца в общем весе составляет 0,54% (Handbuch der Biologie Bd, с.992). Оно хорошо развито, если принять во внимание его размеры.


На мощных прыжках гепарда виден ритм последовательности движений сокращения и растяжения, а также можно наблюдать подвижность позвоночника кошачьих животных
Мы уже указывали на то, что взаимосвязь туловища и конечностей у льва отличается от лошади. В результате усиленного развития костей ноги лошади превратились в органы, с помощью которых животное интенсивно двигается в поле действия внешних сил гравитации и механики. Деятельность мышц разворачивается всецело в среде этих сил. Можно говорить о том, что кости являются определяющей частью двигательных органов лошади. У льва на передний план по отношению к костям выступают именно мышцы. Это со всей ясностью видно по удельной доле костей в общем весе тела животного. У лошади она составляет 20%, а у льва - всего 13%. Внутренняя подвижность мускулатуры, постоянное чередование состояний сокращения и растяжения, напряжения и расслабления и определяют, таким образом, каждую фазу движения и осанки. Костная система настолько подвижна, что вышеуказанное чередование может осуществляться в ней в разнообразных формах. Подобно нашей домашней кошке лев может выгнуть спину дугой или же сильно прогнуть ее при потягивании. Мощные прыжки льва на последнем, решающем, этапе охоты представляют собой быстро чередующуюся последовательность движений интенсивного сокращения и устремленного вперед вытягивания. Такая подвижность - предпосылка для того, чтобы богатый спектр внутренних переживаний мог быть выявлен и сполна прожит в теле льва. Для понимания движений льва, его осанки и поз, которые он принимает в лежачем положении, внимание следует обращать отнюдь не на костную систему и внешние силы.

Силуэт и скелет льва
Вышеперечисленные органы нельзя постигнуть полностью, если рассматривать их лишь с физиологической точки зрения. Ритмы сердца и легких могут сильно колебаться по частоте и амплитуде сокращений. Но эти колебания зависят не только от физического состояния - активности или покоя. Душевное возбуждение непосредственно обнаруживает себя в учащении пульса и ритма дыхания. При переходе к внутренней расслабленности и ощущению комфорта пульс и дыхание замедляются и становятся более поверхностными, а в состоянии страстного аффекта они учащаются и становятся более глубокими. Сердце и легкие - те органы, с помощью которых человек переживает свои чувства, эмоции и страсти. Они обитают в изменениях пульса и ритма дыхания. Таким образом, выявляется важный факт и взаимосвязь. Сила и внутренний размах эмоций и страстей льва связаны с его необычайно мощными лёгкими и хорошим развитым сердцем. Их действие проявляется в накатах дыхания и пульсировании сердца. То, что волнами вздымается в глубине дыхания, может вырываться наружу с ревом льва. Душевные силы, вибрирующие в пульсе льва, пронизывают все его тело вплоть до мускулатуры. Без малейшего намека на метафорическое выражение можно утверждать, что лев всецело находится во власти внутренней жизни легких и сердца. Это проявляется в каждом его движении, в каждой фазе движений. Когда эмоциональные силы оживают в пульcе пищеварительных органов льва, которые развиты у льва довольно незначительно - длина кишечника в среднем составляет 6,9 м. Относительная длина кишечника (отношение длины кишечника к длине тела) составляет лишь 3,9; у лошади 12 и у коровы - от 22 до 29 (все данные см. Flindt, с.44 и с.45), тогда испытываемое им чувство голода перерастает во влекущую, страстную алчность. А те зебры, гну и антилопы, прежде львом практически никак не замечаемые, становятся объектами, на которых он должен удовлетворить эту свою пламенную страсть.
Богатство внутренней жизни весьма впечатляющим образом отражается на виде головы льва, и прежде всего в его «лике». Результаты изучения выражений львиной морды свидетельствуют о том, что физиономия льва - необыкновенно живое зеркало его внутренних переживаний. Как и в реве, рычании и урчании внутреннее здесь выходит наружу и становится зримым. А грива льва доказывает этим усиленным процессом образования волос словно внешним символом того, что между грудью и головой наружу рвутся внутренние силы.
Сущность льва находит свое проявление и в строении черепа. Челюсти, как и конечности, довольно коротки. Мускулатура, однако, отличается мощью. Так, львица способна протащить на довольно большое расстояние целую задранную зебру, держа ее одной пастью. А на пластическом строении нижней челюсти видно, сколь велика сила крепящихся к ней мышц. Страстная агрессивность, свойственная льву при умерщвлении и пожирании жертвы, отражена в форме мощных клыков как будто в некоем замершем жесте. Она находит свое проявление и в форме узких коренных зубов с их острыми бугорками. Особенно же велика размером та часть головы, которая соответствует грудной клетке с легкими и сердцу, а именно носовая полость.
КАНЮК И БЕРКУТ
Для понимания животного необходимо, прежде всего, изучить среду его обитания. Ведь животные тесно вплетены в свою жизненную среду. К трем основным сферам обитания животных относятся: суша, объединяющая множество отдельных территорий, гор и равнин, лесов и открытых пространств; широкие водные просторы морей и океанов, водоемы суши; и, наконец, величайшее из всех морей - воздушное пространство. Субстанция воздуха противоположна субстанциям твердых и плотных горных пород. Это предельно разреженная субстанция, лишенная каких-либо очертаний. Воздуху присуща тенденция к самоулетучиванию. Земля здесь полностью открыта Космосу. Атмосфера интенсивно пронизана светом. Атмосферный воздух, по сравнению с другими субстанциями, поглощает тепло более интенсивно. Он очень чутко реагирует на нагрев и охлаждение, расширяясь и сжимаясь, иными словами - своими восходящими и нисходящими потоками и ветрами. Это необозримое пространство, сквозь которое Земля непосредственно сопряжена с Космосом, и есть родина птиц.
Для того, чтобы наблюдение за миром животных не оказалось однобоким, не следует забывать о том, что высшие животные связаны своим организмом со всеми тремя жизненными средами земного шара. Но все же всегда доминирует та или иная среда. Для птиц такую среду представляет наполненная солнечным светом атмосфера. Однако есть и такие птицы, для которых характерна более тесная привязанность к земле - это птицы семейства куриных, страус, нанду, эму, казуар и, прежде всего, киви. К водной среде больше привязаны утки, нырки и пингвины. Для того, чтобы научиться понимать природу птичьего царства, надо опереться на изучение тех его представителей, на примере которых прослеживается более четкая привязанность к воздушной стихии и солнцу. Яркий тому пример - хищные птицы. К ним относятся такие примечательные создания, как соколы, ястребы, разные канюки, коршуны и луни. Орел, на котором мы остановимся в конце данной главы - самое значительное среди них явление.
Оказавшись летом в местности, где леса чередуются с полями, и, устремив свой взгляд в небо, вы, вероятно, заметите птицу, часами парящую кругами в воздухе. Она сохраняет при этом абсолютное спокойствие. Время от времени она поднимается ввысь, парит в каком-либо направлении и снова заходит на круг. Ее крылья широко расправлены, как бы в полной отдаче окружающему ее пространству. Птица дает себя нести восходящим потокам воздуха, которые образуются при нагревании воздушных масс над полями и степными равнинами. При парении в воздухе над верхней поверхностью крыльев птицы возникает аэродинамический поток, так как крылья обладают слегка выпуклой формой. Поэтому поток воздуха, над верхней поверхностью крыла быстрее, чем под нижней. Сила этой тяги троекратно превышает силу давления поверхности крыльев на воздух во время полета, благодаря чему птица и удерживается в атмосфере. Если бы птица состояла из одних только крыльев, то она, вероятно, никогда не сумела бы опуститься на землю. Глядя на птицу, мы можем различить небольшую голову, широкие крылья и широкий округлый хвост. Это - канюк обыкновенный - одна из самых распространенных хищных птиц в Европе и Северной Азии, а в своей преданности воздушной стихии и одна из самых красивых.


Парящие в воздухе канюк и беркут.
Покидая утром свое гнездо и взмывая ввысь, и почти избавленный там, наверху, от действия сил земного тяготения, канюк устремляет свое сознание на окружающие его просторы. У существа, которое так обитает в стихии воздуха и света, бывают большие глаза. Они крупнее мозга. Своей характерной формой они отличаются от глаз млекопитающих и человека. Они не шаровидны, т.е. не имеют формы замкнутой сферы. Глазное дно с сетчаткой расширяются, получается нечто вроде чаши. Роговица и хрусталик - эти посредники между внешней световой средой и внутренним миром - отличаются весьма крупными размерами и сильно устремлены наружу. Это такие глаза, в которые свет вливается мощным потоком, а их взгляд охватывает дальние дали. Если бы нам захотелось иметь такое же хорошее зрение, как у канюка, то пришлось бы прибегнуть к помощи бинокля с шестикратным увеличением. О живости и четкости сознания канюка можно судить уже по тому, что человек различает лишь 18 образов в секунду, канюк же - около 150. По всей видимости, это связано и с одной из многочисленных особенностей строения глаз птицы. Сетчатка необычайно толста, т.к. содержит в своей структуре нервные соединения, которые формируются у высших млекопитающих и человека только в головном мозге. Равным образом часть характерных для деятельности головного мозга функций сознания вынесена наружу в область глаза - в сферу непосредственной взаимосвязи с окружающим миром света, цвета и форм. Кроме того, сетчатка каждого глаза содержит не одну, а две зрительных ямки (Fоvеае). С помощью одной из них канюк хорошо видит удаленные предметы, а с помощью другой – четким, боковым зрением – пространство по обе стороны от себя, что позволяет бдительно охватывать взглядом местность под широким углом.
Двигательные мышцы этих необычных глаз развиты лишь очень слабо. Именно благодаря движению глаз человек при неизменном положении головы может хорошо воспринять то, что находится в пределах его поля зрения. Птица же осуществляет соответствующие движения в основном при помощи шеи, вращая всей головой. Процесс зрительного восприятия захватывает птицу намного сильнее, чем человека. Сколь велика его интенсивность, можно понять, задавшись вопросом: а что же такое полет канюка? В процессе зрительного восприятия человек проникает своим сознанием наружу в наполненное светом пространство. Канюк же внедряется в это пространство всем своим существом. Его полет самым органичным и тесным образом связан со столь высоко развитыми глазами и широтой сознания.
Посмотрим, в какой степени подобная точка зрения подкрепляется иными феноменами. Особым отличительным признаком птиц является их оперение. Большие перья образуют маховое или рулевое оперение крыльев и хвоста либо крупное покровное оперение. Более многочисленны мелкие контурные перья, которые покрывают тело птицы. Паря в воздухе, канюк распускает маховые перья на своих крыльях - тогда каждое перо само выглядит как небольшое крыло. Если быстро взмахнуть отдельным маховым пером крупной хищной птицы, то можно почувствовать неожиданно сильное сопротивление. Это чем-то напоминает ощущение, которое испытываешь, подставляя ладонь навстречу потоку воды. Таким образом, через оперение своих крыльев птица ощущает тот самый воздух, который обычно не воспринимается человеком из-за тонкости этой субстанции. Птица проникает здесь своим восприятием в сферу, которая почти полностью скрыта от человека. Мы больше ощущаем температуру воздуха, а не его субстанцию. Так и кружащееся парение канюка, по своей сути, представляет собой процесс чуткого восприятие воздуха и его потоков. При так называемом маховом полете - спокойном или частом - восприятие воздуха сопряжено и с восприятием собственной активности.
Каким же образом маховые и хвостовые перья служат восприятию воздуха? Для ответа на этот вопрос необходимо вкратце остановиться на строении пера птицы. Все мы знаем, что перо состоит из стержня и опахала. Стержень пера так легок потому, что его нижняя часть - так называемый очин - почти полностью полый, а в стволе, к которому крепятся опахала, имеются заполненные воздухом полости. От этой центральной оси под острым углом отходит вверх большое количество так называемых бородок, а от них, в свою очередь, - многочисленные бородочки. Часть из них направлена вперед - это бородочки, снабженные мелкими крючочками, которые точно входят в пазы направленных назад дугообразных бородочек, у которых крючочков нет. Перо птицы - воистину шедевр природы! Тончайшая до мельчайших элементов структура как бы преодолела свою массу. До чего же легки эти перья и все оперение птицы! К примеру, все оперение домового воробья, состоящее из 3500 перьев, весит менее двух граммов.
В строении пера преобладает лучистая тенденция. Во-первых, от ствола в окружающее пространство как бы исходят лучами бородки, а от них, в свою очередь, бородочки. И, тем не менее, перо представляет собой целостное образование из-за взаимного сцепления бородочек. В пере, таким образом, в виде омертвевшей структуры проступает наружу то, что упоминалось нами в начале главы в качестве существенного свойства воздуха, а именно: тенденция к улетучиванию и устремленности в окружающее пространство. В развитие одной гётевской формулировки можно было бы сказать, что перо создано воздухом для воздуха. И перья крыльев и хвоста становятся органами чувств именно из-за того, что при возникновении пера в результате уплотнения субстанции вплоть до образования роговицы в нем угасает всякая жизнь. Когда формируется какой-либо орган чувств, то жизненное начало отступает в определенных местах организма, а вместо него проступает закономерность той или иной стихии. Если говорить о маховых и рулевых перьях - то это закономерность воздушной стихии.

Контурные перья покровного оперения птицы тоже обнаруживают внутреннюю связь со стихией воздуха. Ведь воздух интенсивно поглощает и удерживает тепло; он - плохой проводник тепла. Таким образом, покровные перья и пух формируют вместе с воздухом некую тепловую оболочку вокруг птицы.
Все это ясно говорит о глубоком родстве канюка с атмосферой. Его полёт и парение представляют собой лишь наиболее совершенное проявление этой связи, из-за которой канюк и способен обитать в сфере света.
Спускаясь с высот, канюк направляется к своему гнезду, или же садится на одно из деревьев на окраине леса. Канюков часто видят сидящими на межевых столбах и камнях. Сидя там как на наблюдательной вышке с хорошим обзором, он может просидеть в неподвижном состоянии несколько часов. Своим сознанием он погружён в окружающий мир. Он замечает малейшее движение, и различает даже самые тихие шорохи. Тогда он вдруг улетает на какое-то расстояние и хватает острыми когтями лап свою добычу - большей частью мышей, - как правило, полевок.
Постоянно сталкиваешься в книгах с утверждением, будто у канюка и у других птиц есть ноги. Это, однако, неподходящее для них название. Да, и для чего канюку нужны «ноги» - лапы? Обычно он обхватывает ими ветку, на которой сидит, ловит мышей, кротов, ежей, ужей, ящериц, соек, фазанов и прочих животных и уносит их на дерево, чтобы там их съесть, или же в гнездо, чтобы накормить птенцов. Но все эти виды действий выполняются обычно не ногами, или стопами, а, скорее, руками. Так что лапы птицы - это, собственно говоря, ее пальцы. Рука и часть костей запястья атрофировались, превратившись в длинную кость. Таким образом, канюк - существо безногое. Он вообще не попадает в ту стихию, где, к примеру, лошадь обрела силу движений благодаря развитию своих конечностей, - т.е. в ту стихию, где господствуют силы гравитации. Туда он не попадает даже тогда, когда, порой оказывается на земле.
Сидя на ветке, канюк удерживает свое тело между обеими конечностями. У лошади и кошки туловище вытянуто между передними и задними конечностями и отдано во власть силы тяжести. Птица же носит свое туловище свободно. Это ее туловище стабилизировалось самостоятельно в себе самом благодаря костному срастанию позвонков и дополнительному укреплению грудной клетки (см. изображение скелета). Оно освобождено от воздействия силы тяжести, как это бывает обычно только с головой.
Если бы была возможность заглянуть сквозь оперение и тонкую кожу птицы внутрь ее туловища, то было бы заметно, что большей частью оно состоит из заполненных воздухом полостей. Подобно всем птицам канюк вдыхает воздух не только в свои легкие, но и через них - во все тело. При вдохе воздух проникает через легкие дальше в тонкие воздушные мешки, которые тянутся даже внутри крупных костей задних конечностей и крыльев. Подобная пневматизация костей, имеющая место у многих млекопитающих и человека лишь в некоторых костях черепа, охватывает у птиц даже кости конечностей. Тем самым они оказываются подключенными к атмосфере. О чем же свидетельствует тот факт, что птица так глубоко пронизывает себя воздухом?
Усиленное развитие того или иного органа неизбежно сказывается на развитии всего организма в целом, и прежде всего той его части, которая находится во внутренней связи с этим органом. Мы видели, что глаза канюка воспринимают света намного больше, чем обычно, благодаря особой форме и величине. Это интенсивное сопряжение себя с окружающим миром охватывает даже туловище птицы, правда, адекватным ему образом. В процессе дыхания туловище вбирает в себя воздух подобно тому, как на голове глаз вбирает свет. В соответствии с Р.Штейнером мы можем охарактеризовать глаз как залив света, а легкие - как залив воздуха с сильно разветвленной структурой. У птицы этот залив воздуха простирается по воздушным мешкам, благодаря чему птица становится легкой изнутри. Но изменения претерпевает и само дыхание. Дело в том, что при выдохе выходящий из воздушных мешков воздух повторно протекает через легкие, и кровь вновь обогащается кислородом. Так происходит усиленное проникновение воздуха в организм птицы. Процессы живого сгорания в организме усиливаются, а температура тела повышается. Температура тела канюка составляет 40,5°С. Канюк беспрестанно сжигает свое тело в «огне» внутренних процессов сгорания. Эти потери он восполняет за счет ежедневного приема пищи весом около одной шестой части от веса собственного тела (в среднем - около 900 г). Это соответствует примерно пяти мышам-полевкам. Канюк заглатывает их целиком. Пищеварение происходит в жару жизненных процессов довольно быстро. Неперевариваемые остатки пищи канюк отрыгивает в виде так называемых «погадок» («клубков»).
Как и другие птицы, канюк обладает своеобразным строением желудочно-кишечного тракта. Вслед за железистым желудком расположен мощный мышечный желудок, в котором осуществляется и механическая обработка пищи. Он выполняет ту же функцию, что и зубастая пасть у млекопитающих.
Итак, если представить себе все, что характеризует тело канюка: его свободное перенесение по воздуху, костную стабилизацию его формы, глубокое вбирание воздуха, механическую обработку пищи - то получается некая картина, которая может показаться, на первый взгляд, весьма удивительной. Тело канюка видоизменено по сравнению с телом человека и млекопитающих. Оно обладает свойствами, которые обычно можно найти только в формообразующих процессах головы. Это означает, что тело канюка пронизано формообразующими процессами головы и что его строение напоминает строение головы. На внешний взгляд, оно, разумеется, на нее не похоже. Но в нем можно найти качества, характерные именно для головы. Из-за этого птица занимает в системе взаимосвязей природы несколько иное место, нежели другие животные.

Скелет беркута
Из-за мощного развития своих глаз канюк связан с просторами пронизанной солнцем атмосферы, но этим же определяется и вся его организация. Мы уже указывали на то обстоятельство, что при возникновении органов чувств жизненные силы в значительной мере отстраняются на задний план. Эти процессы вмешиваются в формообразование головы и обусловливают окостенение и атрофию зоны рта – превращение её в клюв. Те органы чувств, которые тесно связаны с обменом веществ, а именно органы вкуса и обоняния развиты крайне слабо. Одновременно угасают и те ощущения удовольствия или неудовольствия, которые бывают связаны с этими органами чувств - канюк в значительной мере свободен от аффективной привязанности к материи. Интенсивной привязанности к окружающему миру через глаза соответствует наличие длинной, скрытой оперением подвижной шеи. Мы уже описывали то, что касается связи между развитием сознания в процессе зрительного восприятия и расширением сферы восприятия вплоть до процесса формирования оперения и процесса полета. Надо теперь только принять во внимание то, что образование глаз в немалой степени происходит с участием мозга. Нервная организация чувственного восприятия приобретает из-за этого значительный перевес, а это сказывается на формообразовании всего тела. Туловище и конечности высвобождаются из сферы действия силы тяжести, что обычно происходит только с головой. Кишечник в туловище достигает лишь небольшой длины. У зародыша в яйце птицы вначале формируется главным образом голова с чрезмерно большими глазами. Все остальное производит впечатление несущественного придатка, который впоследствии увеличивается под влиянием доминирующего процесса формирования глаз.
Происходит это все скрытно. В первой половине апреля самка канюка откладывает от двух до четырех яиц. Гнездо располагается в лесу на одном из высоких деревьев. Высиживает яйца в течение 28-31 дня, т.е. синодического периода обращения луны главным образом самка. Сразу после того, как они вылупятся, птенцы предстают в почти совершенно белом пуховом одеянии, которое, однако, вскоре сменяется. С трехнедельного возраста начинается формирование настоящего оперения, а в возрасте примерно 7 недель молодые канюки уже умеют летать. Полную самостоятельность они обретают во второй половине августа. Тогда вся семья полностью распадается.
Теперь канюку суждено прожить шесть или семь лет, повторяя ритм суточного и годичного движения солнца. Когда в период от апреля до сентября солнце разогревает нижние слои воздуха, и они начинают подниматься в силу своих термических свойств, канюка можно увидеть кружащим в небе. Ранним утром он покидает место своего ночлега в лесу и нередко возвращается туда лишь после захода солнца. Из обитающих в Центральной Европе и в центральных районах Восточной Европы канюков многие остаются зимовать на своей родине - особенно те, что постарше. Тогда их можно наблюдать сидящими на деревьях или летящими на малой высоте. Североевропейские канюки, однако, перекочёвывают на несколько месяцев в районы, где дни остаются достаточно светлыми и зимой — в Центральную Европу, в Нидерланды, но в основном в Бельгию и на север Франции.
Уж коль скоро даже канюк представляет собой значительное явление в царстве птиц, то у орла-беркута все просто возведено в наивеличественнейшую и благороднейшую степень. Беркут обитает в высокогорных районах - т.е. там, где сама земля уже максимально приблизилась к солнцу, а также на Севере, где, по замечанию А. фон Гумбольдта, земные условия соответствуют условиям средних гор и высокогорья. Покидая свое гнездо, беркут поднимается на еще большие высоты, чем канюк, и описывает свои круги там наверху, почти укрывшись от человеческого глаза в ослепительном свете солнца. Самоотдача атмосфере значительно превосходит привязанность к ней канюка, если судить по размаху крыльев - 2,30 м у беркута против 1,20-1,40 м у канюка. Острота и широта сознания проявляется в его физиономии, а его сила - в когтях.
Когда он в поисках добычи рыщет на малой высоте над землей, то он может внезапно схватить не только сурка, но даже горного козленка, молодую серну или косулю. Свою добычу, которая испускает дух в когтях, беркут обычно переносит в гнездо, выстроенное на выступе скалы или на кряжистом дереве (как, например, в северных районах). Самка откладывает в таком гнезде по два яйца за год и высиживает их. Птенцы вылупляются через 43-45 дней, т.е. через полтора периода синодического обращения луны. Проходит порядка 11 недель, пока их крылья не разовьются настолько, чтобы птенцы могли выходить в открытое пространство. Первую зиму они проводят еще со своими родителями, которые остаются вместе всю свою жизнь.
Т Ю Л Е Н Ь
Если теперь обратиться к тюленю, то в первую очередь бросается в глаза его заметное отличие от рассмотренных выше образов животных. То, что, например, столь впечатляет и доминирует в облике лошади, а именно развитие конечностей, - у тюленя кажется совершенно заглушённым. В отличие от четкого членения тела здесь господствует одинаковость и единство формы. Этим различиям вроде бы отвечает и непохожесть среды обитания животных. С равнинной местности, где энергичное движение уносит в даль, мы попадаем на пограничное пространство, где суша и море находятся в вечном противоречивом взаимодействии, то есть на берег, с его ритмом приливов и отливов. Когда море отступает на период отлива, тюлени выходят из воды и неуклюже выползают на песчаные отмели или на плоские скалы. Во время очередного прилива они снова окунаются в море. Однако их жизненный ритм определяется не только сменой приливов и отливов, т.е. воздействием Луны на массы вод. Тюлени активны преимущественно днем. Они погружаются поэтому в воду лишь однажды в дневное время, а именно в полдень, когда прилив достигает своей кульминации, ведь следующий прилив начинается ночью, когда тюлени спят. Когда же через несколько дней начало отлива сдвигается на утренние часы, тюлени погружаются в соленую пучину уже с первыми лучами солнца.
В воде тюлень становится легким, т.к. его удерживает подвижная водная среда. Вряд ли можно вообразить себе контраст больший, нежели между инертной лёжкой тюленя под воздействием силы тяжести, сопряжённой с притуплением сознания - особенно зрения - и элегантностью движений в воде. Там тюлень рыщет по зоне действий, которая нередко охватывает просторы свыше ста квадратных километров. В воде тюлень тоже слышит, но главное - там он видит даже намного лучше, чем на суше. В воде он охотится за рыбой, например, за сельдью, а на дне моря он отыскивает камбал, составляющих его основную пищу. Глаза тюленя под водой столь чувствительны, что в светлые лунные ночи он различает рыбу даже на глубине свыше 400 м (Tenouf, 1989, с. 101). Тюлень может находиться под водой более получаса. Таким образом, многое впечатляет, оставаясь при том загадкой. Например, тесная привязанность тюленя и его сородичей к северным и полярным регионам Земли, где год становится похожим на длинные сутки, когда лето сродни дню, а зима - ночи. Жизнь тюленя протекает в том же ритме. Летом, когда солнце поднимается над горизонтом повыше, после продолжительной одиннадцатимесячной беременности на суше рождается потомство, - как правило, один детеныш. Там же, на берегу, мать кормит его чрезвычайно жирным молоком на протяжении 4-6 недель. Но всего через четверть часа после рождения детеныш уже может идти за матерью в воду. В конце июля - начале августа наступает период спаривания, с чего начинается очередной цикл эмбрионального развития.
Если сравнивать внешний облик тюленя с другими млекопитающими, нельзя не заметить, что туловище преобладает над прочими частями тела. У высших животных туловище выступает той частью тела, в котором организм резко обособляется от окружающей среды. Животное сильно сконцентрировано здесь на своих внутренних процессах жизнедеятельности и органах, которые эти процессы обеспечивают - на легких, сердце, желудке и т.д. Когда смотришь на тюленя, складывается впечатление, что его голова -всего лишь переднее окончание туловища. Самоограничение тюленя от окружающей среды заметно на многих деталях. Приглушена, например, столь характерная для млекопитающих слуховая обращенность к внешней среде через ушные раковины. Слуховой проход даже закрывается специальной мышцей. Дыхательная система ограничена в еще большей мере: ноздри у тюленя открываются только для вдоха или выдоха. Это обычно объясняют адаптацией к жизни в воде. Но эти феномены можно рассматривать и в качестве распространения туловища на область головы.
Доминирование туловища особо сказывается на тех частях организма высокоразвитых животных, с помощью которых они обычно вступают в тесный контакт с окружающей средой, т.е. на развитии головы и конечностей. Голова у тюленя не только образует составную часть конфигурации туловища, но и отличается необычно малыми размерами. При сравнении скелетов тюленя и льва заметно, сколь сильно приглушено у тюленя развитие черепа. Тот знак, который подает нам такое формирование туловища, а именно знак самоограничения, проявляется подобным образом и в передних конечностях. Кости плеча и предплечья сохраняются в своем развитии столь короткими, что почти полностью охвачены туловищем. У задних конечности сильно атрофирована бедренная часть. Остальные части интегрированы в сориентированную по горизонтали организацию туловища. Будучи существом «туловищеобразным», тюлень двигается с помощью поясничного отделу позвоночника, его мускулатуры, а также ластообразных задних конечностей, представляющих собой продолжение туловища.
Свои передние конечности тюлень при плавании крепко прижимает к телу. То же можно наблюдать и у прочих представителей семейства настоящих тюленей, которым свойственна столь высокая концентрированность на развитии туловища. В отличие от них ушатые тюлени пользуются для плавания своими более крупными передними конечностями.
Получается, что весь облик тюленя указывает нам на туловище и находящиеся в нем внутренние органы. Из этих органов с внешним миром связаны легкие, желудочно-кишечный тракт и почки. Кровь же является органом, обитающим всецело внутри туловища. Кровь получает у тюленя такое развитие, которое намного превосходит обычные для млекопитающих мерки. В одном из трудов Бюффона-Добентона середины XVIII столетия содержится образное описание: «У них поразительное количество крови ... ее вытекло так много, как будто из быка» (Моhr, 1952, с.75). На языке сухих цифр это выражается следующим образом: у млекопитающих на кровь обычно приходится 8% общего веса тела, а у тюленя (и у прочих ластоногих) - 15%. Гораздо выше интенсивность функции кроветворения, а текучий орган крови приобретает в организме такой вес, как нигде более. Каковы здесь последствия? Необходимо проследить, как чрезмерное кроветворение сказывается на организме в целом, подобно тому, как на организме лошади сказывается чрезмерное развитие ног.
С одной стороны, кровь - носитель теплоты, благодаря которой животное обретает независимость от температуры окружающей среды. Эта независимость проявляется у тюленя с особой силой. Ведь из-за необычно высокой удельной теплоёмкости воды тепло оказывается тесно связанным с субстанцией крови - и массивный ток крови несет в себе много теплоты. Внешне такое приобретение независимости проявляется в соответствующем отграничении от окружающей среды: в подкожном слое формируется вещество, которое удерживает теплоту крови в организме и обеспечивает тем самым стабильный тепловой режим. Речь идет о жире, а его количество в зависимости от сезона может достигать 50% общего веса тюленя. Формирование жирового слоя у наружной оболочки тела и усиленное кроветворение внутри - процессы взаимосвязанные. Это лишь подтверждает сказанное выше при описании процесса самоограничения туловища.
Кроветворение - весьма динамичный процесс. Кровяные клетки постоянно регенерируются. Процессам распада соответствует столь же интенсивный процесс новообразования. Сказанное относится и к веществам кровяной плазмы. В результате мы имеем усиленный процесс питания, о чем свидетельствует хорошо развитая система пищеварения. Желудок у тюленя простой, кишечник необычно длинный. Это подтверждают следующие цифры: длина кишечника у льва в 4 раза превышает длину его тела, у лошади - в 12 раз, у коровы - в 22-29 раз, а у тюленя - в 28 раз. Это удивительно, ведь тюлени питаются главным образом рыбой: взрослое животное ежедневно съедает от 5 до 7 кг пищи. Интенсивность кроветворения явно выступает причиной столь высокой потребности в питании и наличия такого длинного кишечника.
Когда тюлень ныряет, он на короткое время полностью отказывается от связи с атмосферой. Но еще глубже обычного он "ныряет" и в свой собственный организм. Ведь перед проникновением в глубины водного пространства тюлень делает выдох. Из-за приостановки дыхания ритм сердцебиения сильно замедляется. Для тюленей вообще характерно, что у них ослаблена непосредственная связь организма с атмосферой. У тюленей простые легкие, а в черепе нет заполненных воздухом полостей наподобие лобных пазух. Тюлень изначально намного глубже вбирает в себя вдыхаемый кислород, который усваивается прежде всего содержащимся в мышцах миоглобином - белком, похожем на гемоглобин. Почки же, столь тесно связанные с кровообращением, намного более дифференцированы, чем практически у любых других животных.
Здесь надо принять во внимание то обстоятельство, что кровь является жидким, текучим органом. Благодаря крупным сосудам и расширениям, как, например, в печёночной вене (Vеnа hepatica) тюленя сильно развита венозная часть системы кровообращения. В органах животных всегда взаимодействуют два принципа: образование форм и специфические жизненные процессы. Там, где преобладает процесс образования форм, как, например в костях и зубах, процессы жизнедеятельности отходят на задний план. В крови же царит динамика жизни. Но даже та формообразующая тенденция, которая присуща и крови в виде явления свертываемости, оказывается крайне ослабленной в крови тюленя. Таким образом, в организме тюленя властвует тот орган, который радикально противостоит формообразующим процессам. Коль скоро он доминирует в организме и в его развитии, то образование форм ослабляется. С наибольшей очевидностью это заметно в тех органах, в которых преобладает форма, т.е. в зубах. Так, молочные зубы у тюленя по-настоящему вообще не достигает стадии полного развития. Они «подвергаются редукции, даже не успев начать выполнять свои функции» (Кеil.1, 1966, с. 190). Вовне они даже не показываются. Коренные зубы тоже необычны. У млекопитающих зубы делятся на резцы, клыки, передние и задние коренные зубы. До такой дифференциации зубов у тюленя дело вообще не доходит. Вместо коренных зубов у них формируются лишь простые конусообразные зубы. «Редукция процесса смены зубов сопровождается тенденцией к гомодонтии» (Кеil, 1966, с. 190). Это характерно для всех ластоногих.
Выраженный процесс образования форм преобладает в черепе. Мы уже упоминали о том, что череп у тюленей остается небольшим, т.е. развитие этой костной структуры ослаблено в целом. Это относится и к костям конечностей. Факты, которые уже упоминались в ином аспекте, получают дополнительное освещение.
Самым универсальным процессом образования форм является эмбриональное развитие тела зародыша. У некоторых животных эмбриональное развитие протекает очень быстро. Развитие форм, протекает здесь стремительно и интенсивно. Если учитывать, что у коровы, которая обладает намного более сложной организацией, период эмбрионального развития короче (9 месяцев), чем у тюленя (11 месяцев), а у льва - дальнего родственника тюленя - длится всего лишь три с половиной месяца, то становится заметным, что у тюленя образование форм не только ослаблено, но и в целом замедлено. На редкость продолжителен и период достижения полной половой зрелости организма, составляющий 4-6 лет.
Таким образом, появляется возможность понять тюленя, исходя из его внутреннего принципа. Феномены, которые поначалу кажутся сосуществующими без взаимосвязи друг с другом, предстают в качестве результата единого процесса развития. Становится понятной и взаимосвязь тюленя с его жизненным пространством. Он живет в окружении, которое соответствует его внутренней сущности. В мире прохлады и льда умеренных и приполярных широт тюлень реализует мощный механизм своей независимой терморегуляции. Из-за интенсивного развития самого сокровенного внутреннего органа, т.е. крови, формирование тела тюленя сосредоточивается на развитии его туловища. И проявляется это в ритмичной смене среды обитания. Когда тюлень инертно и пассивно лежит на берегу, то из-за отсутствия у него ног он будто тонет в собственном теле. Но потом он непременно вновь ныряет в море, т.е. в ту самую стихию природы, которая более всего сродни текущей потоком жизни его крови.
Примечание: о понятии адаптации
Тот, кто трактует образы животных традиционным для нашего времени образом, наверняка уже возразил бы по разным поводам, что тюленя можно понимать намного проще. Ведь, мол, большинство его особенностей - не что иное, как результат адаптации к жизни в воде. Было бы неразумно не придавать должного значения столь очевидной гармонии между обликом тюленя и его образом жизни в подвижной, текучей стихии воды. Тем не менее с понятием адаптации следует соблюдать известную осмотрительность. Ведь в большинстве случаев с термином " адаптация" связана целая система понимания органического мира. Вести речь об адаптации - нечто гораздо большее, чем безобидно описывать определенное положение вещей. Очевидно, большинство наших современников наверняка связывает с понятием адаптации вот что: появление определенных новых признаков вследствие случайных мутаций, улучшение шансов на выживание в привычной или новой среде обитания благодаря случайно возникшим признакам, и обусловленное этим достижение успеха в борьбе за существование благодаря селекционным преимуществам. Если тогда происходит накопление этих столь позитивных случайностей, то животное предстает совокупностью отдельных благоприобретенных признаков, своего рода мозаикой, которая, однако, отличается от созидаемой художником мозаики тем, что не содержит в себе творческого замысла. Рассуждать так может лишь тот, кто не учитывает наличия многообразных взаимосвязей различных органов в организме животного. Нет никаких изменений, которые не остались бы без влияния на организм в целом. И это не голословное утверждение. Опыт рассмотрения лошади и тюленя показывает, что рассуждения о случайных сочетаниях признаков не столько раскрывают существо вопроса, сколько свидетельствуют о собственных познавательных способностях. Известный французский математик Лаплас однажды сказал: «Le mot hasard n`exprime done que notre ignorance sur les causes des phenomenes» (Schoffeniels, 1984, с. 21). ("Слово "случайность" говорит ни о чем ином, как о нашем незнании причин явлений").
Понятие «адаптация» необходимо избавить от бремени дарвинистской теории, поскольку та явно забывает о целостном характере всего происходящего в организме. Коль скоро организм адаптируется к определенной среде обитания, то это происходит по внутренним законам. В отличие от того, что стоит за расхожей формой понятия адаптации, жизнь - в том числе и жизнь в животном мире - отнюдь не является результатом пассивного, в конечном счете, развития событий, претерпевшего случайные изменения без внутренних на то причин и закрепленного затем волею внешних обстоятельств с помощью механизмов отбора.
ОДНОГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД
Мало какое животное столь впечатляет нас своей физиономией, как верблюд. В свойственной ему манере держать голову чувствуются симпатия и дистанцированность одновременно. Нос на удлиненной голове приподнят до уровня глаз. Верхняя губа длиннее нижней и свисает поверх неё Все это выражает высокую степень самоосознания. Верблюд высоко задирает нос в буквальном смысле слова. Этим он будто выражает снисходительность и безучастность, подобно некой особе, которая из чувства собственной значимости демонстрирует свою внутреннюю отстраненность от окружения.
Иной естествоиспытатель сразу же отвергнет подобное описание и сочтет его ошибочной антропоморфной интерпретацией. Конечно же, необходимо проявлять крайнюю осмотрительность, передавая впечатление от внешнего вида животного. А то, что отражено в нём в действительности, можно выяснить лишь после обстоятельного знакомства с животным.
Прежде всего необходимо разобраться с тем, как одногорбый верблюд (дромедар) обитает в одном из самых непригодных для жизни регионов земли - в поясе пустынь, протянувшемся от северной окраины Западной Африки, через Аравию до Азии, а также в прилегающих к нему степных районах - в мире, где на протяжении длительных засушливых периодов палящее солнце позволяет произрастать лишь весьма скудной растительности. Это - широкие просторы, в которых песок, камни и обнаженные скалы непосредственно сталкиваются с испепеляющей жарой дня и холодом ночи. В песчаном море пустыни на большом удалении друг от друга встречаются острова жизни - оазисы. Без одногорбых верблюдов человеку никогда не удалось бы освоиться в этих местах. Ведь как иначе добраться к этим островам без этого «корабля пустыни». Человек пересекает на нем степи и пустыни. Караваны одногорбых верблюдов и по сей день перевозят многое из того, что необходимо человеку для жизни в этой местности. Кроме того, верблюдицы снабжают его молоком. Двух верблюдиц часто хватает для пропитания целой семьи. Раз в год верблюдов, и в первую очередь молодых, стригут, что дает до трех килограммов мягкой шерсти, обладающей значительными теплоизоляционными свойствами. В этих местах, небогатых древесиной, собирают верблюжий кизяк, который служит горючим материалом. И, наконец, из кожи верблюдов шьют разнообразные кожаные изделия. Вряд ли какое другое животное играет в жизни человека столь фундаментальную роль, как верблюд. Лишь далеко на севере можно найти животных, играющих столь же важную роль в жизни людей - тюленей у эскимосов, и северных оленей - у лапландцев. Больше всего одногорбых верблюдов сейчас в Сомали, Судане, Эфиопии и Индии. Их поголовье за последние три десятилетия даже увеличилось примерно с 10 до 19 миллионов голов.
Каким же образом одногорбому верблюду удается управляться в столь непригодной для жизни местности? Пересекая пустыню с навьюченными грузами, верблюды на протяжении нескольких дней могут обходиться без воды, совсем не теряя сил. Обстоятельные наблюдения за этими животными показали, что до 14 дней могут жить в пустыне без воды, При этом они сильно худеют; их тело иссыхает и теряет до 30% содержащейся в нем влаги. Удивительно, что при этом верблюды не просто выживают, но и сохраняют способность двигаться и есть. Млекопитающие нашей полосы в подобных условиях давно бы погибли; человек погибает при потере всего 14% содержащейся в его организме воды. При этом кровь его становится настолько густой, что с трудом течет по сосудам. По всей видимости, жизненные процессы протекают в организме верблюда иначе, чем у других животных и человека.
Прежде всего, организм верблюда способен сильно удерживать воду - этот жизненно важный элемент. В процессе образования в почках мочи вода интенсивно всасывается в кровь. Порой случается, что за целый день одногорбый верблюд выделяет не более одного литра мочи, хотя и очень концентрированной. Интенсивное всасывание жидкости происходит также в толстой кишке. Именно потому верблюжий навоз бывает необычайно сухим. Процесс выделения жидкости с поверхности тела выражен слабо, даже при сильной жаре, что объясняется прежде всего небольшим количеством потовых желез. Особенно впечатляет снижение потерь воды в силу особого устройства носа. Обычно вместе с воздухом млекопитающие выдыхают и некоторое количество влаги. У одногорбого верблюда особенно велика внутренняя поверхность спиралевидных носовых раковин, выстланная слизистой оболочкой. Вдыхаемый верблюдом сухой воздух пустыни в носу увлажняется, т.к. в противном случае нежная ткань легких оказалась бы тяжело поврежденной. Слизистая оболочка носа при этом немного подсыхает. Однако, при выдохе она вновь вбирает в себя большую часть влаги из выдыхаемого воздуха (Schmidt-Nielsen 1981, с 66 и далее). С помощью специальной мышцы одногорбый верблюд может даже закрывать свои ноздри, например, во время песчаной бури. При этом он ложится спиной к сильному ветру, несущему горячий песок.
В почках, прямой кишке, коже и носу одногорбого верблюда протекает один и тот же процесс. Организм должен быть обособлен от окружающей среды ради сохранения своей жизни. Это достигается не только кожным покровом. Свою внутреннюю самостоятельность организм сохраняет и благодаря другому важному жизненному процессу. Именно этот процесс и выражен в организме одногорбого верблюда более интенсивно, чем у других животных.
Разными своими органами - такими как кожа, желудок и легкие - животное в большей или меньшей степени связано со своей средой обитания. Один из органов животного живет совершено обособленно внутри его организма - это кровь. А силы, благодаря которым кровь обретает свою самостоятельность, действуют в организме верблюда особенно интенсивно. Обезвоживание организма затрагивает в наивысшей степени желудок (и прежде всего рубец), а также ткани других органов, кровь же затрагивается здесь в наименьшей степени. Кровь не сгущается даже при сильном иссушении всего тела. Она целиком сохраняет свою жизненную силу, и тем самым - свою живительную для всего организма функцию. Почки компенсируют обезвоживание, усиленно удерживая в организме воду, поскольку и в обычных условиях выполняют функцию регулирования кровообращения и процесса кроветворения. Этот столь интенсивный у одногорбого верблюда процесс простирается по всему его организму - вплоть до носа. Из-за этого верблюд и становится животным, жизненная организация которого достигает высокой степени независимости. По сравнению с другими животными верблюд - существо весьма самостоятельное и замкнутое на самом себе. Шагающий по пустыне одногорбый верблюд похож на живой оазис - его сильно индивидуализированный организм легко переносит жару и сухость.
Совершенно иначе строятся взаимоотношений одногорбого верблюда с характерным для пустынь и степей резким колебанием температуры воздуха - сильным нагревом воздуха днем и его значительным охлаждением из-за теплоизлучения ясными ночами. В течение дня тело верблюда нагревается от 36 до 39 градусов Ночью оно снова остывает. Животное воспроизводит ритм колебаний температуры своего окружения, чередуя нагрев из-за воздействия солнечного тепла днем и излучение тепла ночью. Когда под воздействием жары тело одногорбого верблюда иссыхает, усиливается влияние внешних колебаний температуры на организм животного. Тогда температура тела животного может повышаться до 40,7°С, а ночью понижаться до 34,5°С (Achazi, 1988, с.312).
Терморегулирующее воздействие воды оказывается как бы ослабленным в его организме при иссыхании тела. Таким образом, одногорбый верблюд воспроизводит столь важный для пустыни ее каждодневный тепловой ритм всей глубиной своего тела, самой своей кровью. Это означает, что одногорбый верблюд всей своей жизненной организацией связан с пустыней. Это возможно, однако, лишь потому, что в движении своей крови он столь независим от иссушающего воздействия жары.
Колебания температуры тела - эту временную гетеротермию - обычно считают результатом приспособления. Повышение температуры сокращает разницу между нею и температурой горячего воздуха пустыни, а тем самым дополнительно снижается и без того незначительное потоотделение. Более правильным и менее обременённым теориями представляется, однако, утверждение о наличии взаимного соответствия между процессами в организме одногорбого верблюда и в окружающей его пустыне.
Теперь можно приступить к изучению облика и поведения одногорбого верблюда. Какова взаимосвязь его облика и среды обитания? Конечности необычайно длинны, и благодаря этому туловище значительно поднято над землей. Как и у лошади, процесс развития верхней части ноги распространился на область стопы и видоизменил ее. Плюсна преобразилась в длинную крепкую кость, которая подобно голени подпирает туловище. В отличие от лошади у дромедара всего два пальца. На первой и второй их фалангах образовалась плотная эластичная подушка из соединительной ткани. Таким образом, одногорбый верблюд опирается на почву четырьмя своеобразными подошвами, похожими на атрофированные стопы. Этот контакт с раскаленной часто почвой, который осуществляется через большую поверхность, есть вместе с тем и четкое отграничение. Такие кожные мозоли существуют у дромедара везде, где он соприкасается с землей в лежачем положении - на коленях и на груди.


Конечности делают одногорбого верблюда чрезвычайно подвижным животным. Даль пустынь и степей относится к его сущности. Эти просторы одногорбый верблюд преодолевает равномерно-ритмичной иноходью. Из-за длины костей конечности обособлены от организма одногорбого верблюда больше, чем у лошади. Верблюды двигаются враскачку, что так характерно для иноходи. Переваливаясь в неустанном ритме то вправо, то влево, одногорбый верблюд плывет по пустыне, равномерно покачиваясь словно корабль. Благодаря такому способу передвижения одногорбый верблюд пересекает равнинную и слабо холмистую местность весьма экономичным образом, развивая при этом скорость около 6 км в час. Обычная дневная норма каравана - сорок километров пути. Более крутые подъемы доставляют животным большие трудности. Спускаться вниз по откосам им довольно трудно - иногда приходится даже иначе распределять навьюченные грузы, чтобы животные не падали. Верховые верблюды в состоянии преодолевать за день около 120 км пути, развивая галопом даже в разгар пустынного зноя скорость до 20 км в час.
Ноги одногорбого верблюда сочленены с его туловищем весьма своеобразно - бедра не интегрированы в тело, как обычно. Верблюд будто бы носит свое тело между передними и задними ногами, словно на носилках. По своей форме туловище одногорбого верблюда значительно замкнуто на себе самом. У сытых животных оно напоминает туго набитый мешок. Таким образом, своеобразие жизненных процессов - их обособление и независимость - находит свое проявление и во внешнем облике одногорбого верблюда.
Для работы мускулатуры необходимо интенсивное питание и дыхание. Сообразно конечностям сильно развиты у верблюда и органы пищеварения. Верблюд - жвачное животное с большим рубцом. В отличие от прочих жвачных, сетка и книжка не разделены. Содержание красных кровяных телец в крови - выше среднего. Тем самым обеспечивается интенсивная стимуляция внутреннего дыхания во всем организме, и прежде всего в мускулатуре.
Во внешнем облике более всего выделяется горб. При хорошем питании в нем откладывается до 30 кг жира. Горб и растущая на нем шерсть защищают тело верблюда от палящих сверху солнечных лучей. Вместе с тем это - резервный рацион верблюда, который «съедается» в плохие времена. Из одного килограмма жира верблюд вырабатывает один литр воды.
Усиленное развитие конечностей находит свое продолжение и в других частях тела, относящихся к двигательной организации. Шея достигает необычайной длины. Она выгнута так, что придает верблюду некое выражение, свидетельствующее о его отношении к окружению - самообособлении и соблюдении определенной дистанции. По всей видимости, это отношение - отношение не только физиологического, но и душевного свойства. Ведь в физиономии - этой проекции душевных начал на голову проявляются внутренняя дистанцированность, чувство отстраняющегося превосходства и подчеркнутое самоосознание.

Силуэт и скелет одногорбого верблюда
А как с поведением? Одногорбые верблюды часто становятся невероятно строптивыми, когда на них навьючивают грузы. Они ревут, оказывают сопротивление и пытаются освободиться от поклажи. Как же может добровольно подчиниться такое независимое по своей сущности животное? Когда же навьюченные грузом от 3-х до 5-ти центнеров одногорбые верблюды все же поднимаются и пускаются в путь, они вытягивают свои шеи вперед. Во время движения по пустыне верблюды внюхиваются вдаль. Благодаря устройству носа у них тонкое чутье, и они на большом расстоянии распознают источник воды или приближение песчаной бури. Одногорбые верблюды воспринимают друг друга по запаху на расстоянии до 10 км.
Одногорбых верблюдов кормят в пути ячменем, просом или сорго. Когда после многих часов дороги они пьют на привале из источника, то поглощают неимоверно большие количества воды. Один верблюд может выпить за раз до 100 л воды; а если он сильно иссушен - то до 200 л воды. Здесь как раз и видно, сколь велика у них, должно быть, жажда. Ведь человек при весе в 70 кг начинает испытывать жажду, когда его организм теряет всего 350 г жидкости. Каково же одногорбому верблюду, не имевшему возможности пить на протяжении нескольких дней?
Утолив жажду, верблюд отправляется на поиски пищи. Зачастую он находит лишь сухую траву и колючий кустарник, с которого он ловко обрывает губами крохотные листочки. Он ест и ветки с колючками и шипами и размалывает их, даже не поранив себя. С каждого куста или дерева верблюд обычно срывает лишь несколько веток и листьев, переходя затем к другому. Когда же верблюд очень голоден, он может съесть даже старую корзину или подстилку из пальмовых листьев. В Восточном Судане люди устраивают вокруг своих хижин специальные ограды, чтобы уберечь их от верблюдов. Что касается пищи, то одногорбый верблюд столь же непритязателен, сколь скудна и сама растительность пустыни. Он даже отдает некоторое предпочтение сухому и жесткому корму. Но жить при таком скудном питании он может лишь благодаря развитым силам пищеварения, которыми он обладает, будучи жвачным животным,
Уже в облике верблюжонка - его сверхдлинных ногах - угадывается роль двигательной организации. Через полчаса после своего рождения верблюжонок пытается встать на ноги, а спустя час он уже умеет стоять. В течение первых недель жизни верблюжонок весьма чувствителен, ему нужно много тепла. Он долго питается материнским молоком, но начинает есть и грубый корм всего через неделю после рождения. Так уже в раннем возрасте проявляется внутренняя связь верблюда с его будущей средой обитания. В возрасте трех-пяти лет верблюдов приучают к их будущим обязанностям в роли верхового животного, вьючного или рабочего скота, который тянет повозки, плуги и молотилки и приводит в движение водяные колеса и мельницы. Но по своей природе одногорбый верблюд не относится ни к тем, ни к другим. Существуют, правда, различные разновидности - маленький горный одногорбый верблюд или более крупный и длинноногий равнинный одногорбый верблюд, а среди последних существует вид пустынного верблюда - более легкого и сухопарого животного, а также речного верблюда - компактного и костлявого, который обитает в более богатых водой районах.
Если научиться понимать одногорбого верблюда, то по его облику и его жизненным процессам, по его поведению и физиономии, а также по окраске шкуры видно, что это - животное пустыни и иссушенной солнцем степи.
Б Е Г Е М О Т
Есть животные, облик которых преисполнен благородства. Отдельные части туловища таких животных находятся в гармоничном равновесии, как, например, у льва и других крупных кошек, у лошади и у антилоп. Благородное впечатление возникает и благодаря их изящному телосложению. Примером могут служить олени или газели. Однако есть и такие животные, в строении тела которых вы не обнаружите и намека на уравновешенность и гармонию. Вплоть до своей внешности они являют собой образ крайней однобокости. К ним относится и бегемот - тот гигант среди животных, у которого масса (взрослый бегемот весит 3,2 тонны) кажется самым существенным. Такие животные, как например, птицы, имеют небольшой вес, но отличаются четкими формами. Бегемот же - прямая тому противоположность, это живая масса, которую так и не сумели одолеть формообразующие силы. То, что для другого животного оказалось бы патологией, здесь является нормой.
Длина тела бегемота чрезвычайно велика - она достигает 4,5 м. Туловище выглядит как битком набитый живот. Там, где обычно бывает шея, объёмные формы продолжаются, переходя в голову, также вытянутой формы. Голова состоит главным образом из пасти. Мозговая коробка - самая незначительная часть головы. На голове бегемота много одутловатостей - прежде всего толстые губы на пасти, которая имеет форму такой широкой дуги, как будто речь идет о том, чтобы заглотить как можно больше. Когда бегемот раскрывает пасть, становится виден громадный зев, огромные жевательные поверхности и мощные клыки. Эти клыки в несколько раз больше клыков родственных бегемоту свиней. Глаза обрамлены утолщенными валиками, и даже маленькие уши толстые и мясистые.
Непропорциональность проявляется более всего в коротких и неуклюжих ногах. По облику всего туловища видно, что главное здесь - брюхо. А органы, которыми бегемот удерживается в пространстве, развиты весьма слабо. Изумляет, что они выдерживают столь тяжелое тело, и уж совсем удивительно то, что бегемот умеет быстро бегать, развивая скорость до 48 км в час, разумеется, только на короткие расстояния.

Силуэт и скелет бегемота
Повстречавшись с бегемотом на его африканской родине, вы получите некоторое представление о его своеобразном образе жизни. Бегемоты живут там, где круглый год много воды, и образуют стада в 20-30 голов. День они проводят, к примеру, в заводях медленно текущей реки, или на мелководье озера, за исключением коротких промежутков времени, когда они, насколько это позволяет палящая жара, отдыхают на песчаной отмели. Они стоят в воде, подъемная сила которой заметно облегчает вес их тела. Таким образом, тело бегемота поддерживают не столько ноги, сколько теплая вода. Тело почти полностью погружено в воду, лишь глаза и уши немного выдаются над ее поверхностью. Органы чувств находятся как бы на нижней границе нашего мира
Двигаясь в воде, бегемот находится в состоянии, которое наверняка можно назвать приятным - это промежуточное состояние между ходьбой и свободным парением. На несколько минут бегемот может полностью погрузиться в воду и перемещаться под ее поверхностью.
Что же бегемот делает в воде? Со стороны видно лишь немного. Основная активность разворачивается внутри его живота. Бегемот занят перевариванием тех масс травы, которые он поглотил ночью, а также водорослей и камыша, которые он помимо этого съедает днем. Вес всей этой массы - около 150 кг. Желудок бегемота - мощный орган. Собственно желудок расширяется на два больших слепых мешка, где происходит процесс брожения. За ними следует задний желудок с кишечником, длиною свыше 6о м. В этом колоссальном пищеварительном тракте большая часть травы перерабатывается до разжижения. В тонком кишечнике происходит всасывание переваренной субстанции в кровь. Здесь и начинается тот процесс питания, который и позволяет бегемоту вырасти в столь массивного колосса. Когда туземцы потрошат бегемота, то с его туши они получают относительно больше мяса, чем можно добыть из туш других животных.
Если учесть, что пищеварительный процесс ведет к разжижению съеденной пищи, а это разжижение играет столь доминирующую в бегемоте роль, то можно понять некоторые факты. Когда бегемот погружается в воду для переваривания пищи, он намного сильнее погружается вглубь собственного тела, чем находясь на берегу на твердой почве. Он погружается в ту среду, которая соответствует жизненным процессам, происходящим внутри его тела. Эти процессы имеют определяющее значение и для организма бегемота, вплоть до наружного слоя кожи. Ведь на коже нет жесткой щетины, но зато имеется большое количество желез, выделяющих секрет медно-бурого цвета - т.е. бегемот голый.
В воде бегемоты испражняют значительные массы экскрементов. Если выражаться точно, то обитают они не в воде, а в разбавленном водой содержимом толстого кишечника. Это содержимое также формирует питательную среду, которая стимулирует рост планктона, а в конечном счете - через ряд этапов пищевой цепи - изобилие рыбы. Одна весьма ценная для рыбаков порода рыб водится в больших количествах именно в тех озерах, где обитает много бегемотов. Пищеварение и питание, очевидно, представляют собой наиболее существенные для бегемота жизненные процессы, в том числе и с точки зрения экологии. Они определяют и весьма однообразный жизненный ритм. Животные, которые благодаря развитию своих глаз принадлежат к миру света, как, например, птицы, днем бывают весьма подвижны, а ночью во сне совершенно уединяются от внешнего мира. Жизнь же бегемота полностью определяется сменой процессов приема и переваривания пищи. Они выходят из воды во время быстро протекающего захода солнца или чуть позже. Вблизи водоемов находятся большие кучи экскрементов, высотой до одного метра и до двух метров в диаметре. Животные относятся к ним с должным почтением. Самки просто испражняют кал на землю. Самцы же, по всей видимости, во время испражнения сильно возбуждаются, и используют свой хвост в качестве пропеллера, наподобие машины для разбрасывания навоза. Бегемоты рассеивают свои экскременты, стимулируя тем самым и на суше жизнь природы. Под покровом ночи бегемоты обрывают губами огромные массы травы, время от времени разрывая своими мощными клыками землю в поисках корней и клубней. Во время приема пищи в условиях темноты поле их сознания зажато в узкие рамки. Из окружающей саванны до них доносятся лишь отдельные шумы и звуки. Еще до восхода солнца бегемоты с набитыми желудками возвращаются в воду. Как уже рассказывалось, горизонт их сознания крайне ограничен и здесь. Вот таким образом, бегемот постоянно и живет в противоречии с ежедневным ритмом движения солнца. Еще до появления солнца над горизонтом, бегемот, как правило, погружается в воду; а как только солнце заходит, он выбирается на сушу.
Когда животное оказывается во власти притуплённых процессов пищеварения и питания столь сильно, как бегемот, тогда притупляется и направленное вовне сознание. Но природа удивительным образом восполняет то, чего недостает бегемоту. На спины бегемотов, словно на живые острова, садятся птицы, которые благодаря своей тонкой чувствительности все замечают и громко кричат в случае опасности.
Спаривание происходит в воде. Перед спариванием среди самцов нередко происходят ожесточенные схватки. Животные нападают друг на друга с мощным ревом, раздающимся будто из пустой бочки и слышимом на далеком расстоянии, и зачастую наносят друг другу тяжелые раны. Через восемь месяцев дётеныш появляется на свет в воде, где затем предстоит провести большую часть своей жизни. Там же в воде самка вскармливает его своим молоком.
В заключении хотелось бы привести еще один пример, показывающий, насколько последовательно сущность бегемота проявляется не только в его облике, но даже в мельчайших деталях его поведения. В стаде бегемотов царит четкий иерархический порядок. Более низкое по статусу животное уступает вышестоящему даже дорогу. Статус приобретается не по рождению, а должен быть завоеван самим животным. У некоторых животных это происходит в результате агрессивных конфликтов. Каким же образом бегемот завоевывает преимущество перед своим соперником? Оба бегемота становятся рядом и одновременно опорожняют свой кишечник. Побеждает тот, кто напустил больше экскрементов. Ведь тем самым животное показывает, что природа бегемота проявляется в нем с большей интенсивностью, чем в сопернике.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что некоторые жизненные и формообразующие процессы не только налагают на организм животного специфический отпечаток, но что между этой спецификой и поведением животного существует некая духовная взаимосвязь. Этот всеохватывающий духовный принцип и есть собственно само животное. То, что мы наблюдаем со стороны, это всего лишь явление, а не сущность.
Ж И Р А Ф
Широкие равнины саванны - это именно те пространства, на которых жизненные процессы Земли испытывают наиболее интенсивное воздействие солнца, всей массы его света и тепла. Здесь царит вечное лето с регулярной сменой дождливых и засушливых периодов. Небо часто бывает покрыто облаками когда солнце находится в зените. Большей частью короткие и редкие дожди пропитывают почву водой. Взаимодействие тепла и влаги сообщает импульс жизненным процессам и способствует росту богатого ковра растительности, в котором явно преобладают травы. На колючих кустах и деревьях тоже появляются молодые побеги с листочками. В другое время года господствует иссушающая жара солнце поднимается в небо уже не столь высоко, а дожди прекращаются. Иссушается почва. Засыхают и желтеют травы. Большая часть деревьев теряет листву. Тем не менее многие из них начинают цветение еще за несколько недель до наступления очередного периода дождей и нового всплеска жизни. Природа впечатляюще демонстрирует взаимосвязь бурного роста с влагой и зависимость цветения исключительно от воздействия солнца. Могущество солнца проявляется в многообразии форм и жизненных процессов растительного мира, и, пожалуй, с наибольшей красотой - в явлении зонтичной акации, которая в значительной степени определяет картину саванны. Ствол акации нередко разделяется на множество крепких сучьев еще у самой земли. Это самораспространение выливается в формирование кроны, которая развернута всей своей поверхностью к солнцу. Этим она отличается от наших лиственных деревьев, крона которых имеет более или менее выраженную сферическую форму, будучи обращена ко всему окружению. Этот залитый солнечным светом мир африканской саванны и есть жизненное пространство жирафа.
Это удивительное животное обитает здесь небольшими группами, которые иногда объединяются в стада численностью в пятьдесят голов и более, нередко образуя мирное сообщество с зебрами, антилопами и страусами. Весь облик жирафа проникнут одним сквозным принципом - принципом вертикального удлинения. В одном из своих фундаментальных трудов Гете пишет: «Благоприятственное развитие шеи и конечностей... за счет развития туловища» (Gоеthе, 1949, с.247). Ни у одного животного нет таких длинных ног и такой длинной шеи, и вместе с тем столь короткого в сравнении с ногами туловища. Своим почти шестиметровым ростом (5,80 м) жирафу выделяется среди всех прочих животных. В осанке проявляется некий особый характер. Обычно туловище высокоразвитых животных располагается в горизонтальной плоскости. Это говорит об их сильной сориентированности в окружающий мир. Здесь находят свое выражение силы желаний и инстинктивные двигательные импульсы. У жирафы все это как бы отступает на задний план. Кажется, что жираф владеет собой больше других животных. В его облике воспринимается спокойствие и достоинство. Величественное впечатление производят даже движения жирафа. Все это позволяет понять его мягкий и неагрессивный характер. Жирафа реагирует энергично и страстно лишь в единственной ситуации, а именно, при нападении на ее детеныша. В этом случае она бросается на разбойника со страшными ударами передних копыт.
Что впечатляет в жирафе больше всего, так это его шея. В отличие от, например, лебедя или страуса она достигает своей длины не из-за дополнительных позвонков. Как и у всех млекопитающих, у жирафы всего семь шейных позвонков. Они отличаются, однако, мощным строением. Их удерживают сильные мышцы и связки, которые крепятся главным образом на длинных остистых отростках позвонков грудного отдела позвоночника. Из-за своего почти правильно вертикального положения эта длинная шея жирафу становится и неким статичным образованием, в котором книзу значительно возрастает давление. Вытянутость шеи определяет формирование и остальных частей организма - прежде всего там, где и без того преобладает вертикальное развитие и формирование несущих опор, то есть в конечностях. Стопа здесь преобразована в длинную опорную кость еще больше, чем у коровы и верблюда. Кости голени тоже необычно удлиняются. Удлинение распространяется и на изгибы суставов. Ноги превращаются, таким образом, в высокие опоры. Дело в том, что жирафы довольно тяжелы. Вес взрослого животного составляет от 500 до 750 кг, но может достигать порой и 1200 кг. Тем не менее, благодаря строению ног масса тела жирафу не оказывает обременительного давления на конечности, а уверенно удерживается ими. То же можно сказать и о шее. Вертикальное строение тела жирафят обеспечивает таким образом его разгрузку. Благодаря этому жирафа столь свободно держится в своей среде обитания.
Вертикальное удлинение выражено в передних конечностях (т.е. вблизи шеи) сильнее, чем в задних. К шее происходит подъем позвоночника и линии спины. Если смотреть на жирафа со стороны, то складывается впечатление, будто шея растет прямо из задней части туловища. Это впечатление верно в том плане, что процесс формирования шеи именно таким образом воздействует на развитие корпуса жирафы. Можно также заметить, что туловище впереди становится мощнее и что грудная клетка чрезвычайно высока.
Когда жираф стоит, то нижние части ног похожи на ходули; когда жираф передвигается, они производят раскачивающиеся движения. Видно, что животное как бы не сполна обитает в собственных ногах, а управляет ими будто извне, то есть сверху. Из-за чрезмерного удлинения костей и их тяжести конечности обособились от внутренней части животного. Именно поэтому жираф при медленной ходьбе передвигается неустойчивой, раскачивающейся иноходью. Когда жираф несется галопом, впечатление непрочности его связи с землей только усиливается. Кажется, что жираф парит над землёй, лишь мимолетно касаясь её. Конечности двигаются где-то внизу, а животное вместе со своим сознанием обитает в высоте и на просторе.
Благодаря своей шее у жирафа широкий кругозор. Это наглядно проявляется в строении головы. Там, наверху, в мире света, глаза становятся необычно большими и несколько выдаются наружу. С их помощью сознание проникает далеко в глубины окружающего мира, заполненного светом. Установлено, что жираф может на расстоянии 1 км определять принадлежность другого жирафа к своему стаду. Глаза обладают тонкой восприимчивостью к цвету - они в состоянии распознавать красный, оранжевый, желто-зеленый, зеленый, голубой и фиолетовый цвета. У жирафа также длинные ушные раковины и хороший слух. Губы у жирафа широкие и подвижные. Даже своим темным языком жираф внедряется в окружающий мир, ведь длина языка может превышать 50 см. С его помощью жираф подтягивает к себе ветки, с которых обрывает губами листья и почки. Жираф с земли не кормится. Его пастбища - это кроны зонтичных акаций, в тени которых он так любит стоять. Даже питаясь, жираф не теряет обзора. Книзу он нагибается только тогда, когда ему время от времени надо пить. Это дается ему с довольно большим трудом, поскольку до воды жирафа дотягивается, только широко расставив передние ноги.
На голове жирафа необычайную длину приобретают челюсти, они становятся подобны конечностям. Кроме того, возникают и другие формы, обращающие на себя внимание. У жирафов - особенно у самцов - вырастают небольшие рожки. Они почти целиком покрыты шерстью, но на концах между пучками волос кость оголена. Эти рожки напоминают рога оленей, с помощью которых животное и его жизненные силы вступают во взаимосвязь с окружающим миром (см. дополнение к труду Г.Громана о северном олене). Оба задних рога вырастают, правда, не из костей черепа. Они формируются независимо от него и срастаются с черепом лишь после рождения животного. Прочная связь жирафа с окружающим миром сказывается даже в костном строении черепа. В нем образуются просторные воздушные полости. Лобные пазухи увеличены настолько, что простираются вдоль всего черепа вплоть до задней его части. А высокий черепной свод объясняется наличием в костях черепной крышки объемных воздушных полостей. Таким образом, в результате усиленного развития шеи жирафа вступает своей головой в интенсивную связь с силами своего окружения, с миром света и цвета, шумов и звуков, а также с атмосферой.
Та же тенденция наблюдается и в дыхании. Жирафу приходится глубоко дышать, чтобы воздух при вдохе доходил до легких. Вдохи и выдохи представляют собой процесс особой интенсивности. Это проявляется и в строении грудной клетки: из четырнадцати пар ребер семь пар так называемых ложных ребер работают в процессе дыхания особенно активно. Интенсивность дыхания сказывается на всем организме. Кровь содержит красных кровяных телец примерно вдвое больше, чем у большинства других млекопитающих. Этим обеспечивается особенно интенсивное снабжение всего тела воздухом. Мы уже говорили, что жирафы питаются растительностью. Это отвечает их спокойной, неагрессивной натуре. Но жирафы - еще и жвачные животные. Как у коров и многих других обитателей саванн (например, антилоп и газелей) у них высокоразвитая пищеварительная система с четырьмя желудками. Обрываемые ими листья, правда, не столь грубая пища, как та трава, которой питаются коровы. У жирафа, как и у коровы, можно наблюдать, что через некоторое время после кормежки порция пищи доставляется по весьма мускулистому пищеводу из рубца наверх в пасть, где она основательно прожевывается, а затем заглатывается. Голова жирафа, однако, более свободна, поскольку благодаря высокой шее она поднята высоко над притуплёнными жизненными процессами туловища. Голова и туловище находятся на разных уровнях и с точки зрения степени осознанности.
Есть один факт, который, как кажется, противоречит всему, о чем до сих пор говорилось. Речь идет о длине кишечника жирафа. Она составляет в среднем 76 м и превышает протяженность кишечника коровы и бегемота. Надо, однако, отдавать себе отчет в том, что из-за своей шеи жирафа обладает более растянутой мускулатурой и вынуждена развивать больше мускульных усилий. Так разрешается и эта загадка. Из-за своей шеи жирафа и нуждается в усиленном питании.

Силуэт и скелет жирафа
Жирафы - существа, облик и поведение которых находятся в глубокой взаимосвязи с саванной. Днем они долгими часами стоят в тени зонтичных акаций. Ветви деревьев создают решетку светотени, в которой жирафы могут стать невидимыми благодаря сетчато-пятнистой окраске шкуры. Зухантке описывает встречу с жирафом-самцом в следующих словах: «Его очертания расплываются в нагромождении изломанных линий толстых сучьев, в путанице света и теней, пробегающей по ветвям. Его становится видно лишь тогда, когда он медленно и размеренно отделяется от группы деревьев, чтобы попастись на другой зонтичной акации» (Suchantke, 1972, с.261). Наличие сетчатого или звездчатого (как у «масайского» жирафа) узора на простой коричневой шерсти придает ее облику больше легкости, чем было бы при однородной коричневой окраске. Так, даже в шкуре проявляется самоосвобождение от земного тяготения и самоинтеграция в простор заполненной светом природы.
Жирафы ложатся на землю только с наступлением ночной тишины. Но и в этой позе их шеи остаются вертикальном положении. Они склоняют шею назад и кладут голову на задние ноги лишь на короткое время. Вот тогда они действительно спят. Остальную часть ночи они проводят в дремоте с открытыми или закрытыми глазами. Время от времени они даже ненадолго встают. Периоды собственно сна весьма коротки и не превышают двенадцати минут. Животное, которое днем являет собой картину бодрствования, обходится благодаря своей конституции весьма непродолжительным сном.
Самка вынашивает детеныша больше года, 14-15 месяцев; период эмбрионального развития бывает дольше лишь у носорогов и слонов. Роды случаются обычно днем, т.е. в положении стоя. При этом жирафёнок падает с высоты более двух метров. Но всего через полчаса он поднимается на свои длинные ноги, и уже тогда его рост может составить около двух метров. Развитие протекает неторопливо. Постоянные зубы начинают прорезаться лишь в трехлетнем возрасте. Своих окончательных размеров и половой зрелости жирафы достигают к пяти-шести годам.
Молодые животные длительное время остаются в стаде у своих матерей. Самки ведут мирное и бесконфликтное сосуществование. Молодые самцы подчиняются иерархии. Каким же образом самец завоевывает себе более высокий статус, иными словами, как он показывает, что природа жирафа проявляется в нем в более совершенном виде? Два самца становятся рядом и попеременно бьют друг друга шеями и головами. Побеждает тот, кто окажется более сильным, т.е. тот, у кого сильнее шея. При встрече с более низкими по статусу жирафами самец демонстрирует свое превосходство именно тем, что ставит шею более вертикально и держит свою голову выше других.
Ч Е Р Е П А Х А
Против идей Гёте относительно органичного изучения животных выдвигалось возражение, будто это применимо только к млекопитающим, на изучение которых опирался и сам Гете. Так ли это? Приступая к исследованию черепахи, мы попадаем в мир пресмыкающихся. Черепахи - самая своеобразная группа животных среди пресмыкающихся. Самое удивительное в них - затвердевший наружный корпус, из которого обычно ненамного высовываются голова, компактные конечности и хвост. Всем пресмыкающимся свойственна сухая и плотная кожа. Процессы отмирания в эпидермисе - внешнем слое кожи - протекают с особой силой. Так образуются роговые чешуйки, а в глубинном слое кожи иногда даже костяные чешуйки. Внутренняя часть тела резко отграничена от окружающей среды. Панцирь наземной черепахи представляет собой кульминацию подобной тенденции к отграничению.
Панцирь весьма важен для черепахи во многих отношениях. Во время сна она целиком забирается внутрь. Проснувшись, черепаха своими ногами слегка приподнимает панцирь над землей. Перемещение черепахи - это транспортировка наружного корпуса, из которого спереди выглядывает голова. Замкнутый характер черепахи проявляется и в прочих частях ее тела - в маленькой компактной голове и в неуклюжих конечностях.
Далее мы постоянно будем обращаться к рассмотрению балканской сухопутной черепахи (Testudo hermanni). Она водится в засушливых районах Апеннинского (вплоть до Пиренейского) и Балканского полуостровов. По своим существенным признакам она столь близка к другим наземным черепахам, что, обращаясь к ней, мы постоянно будем держать в поле зрения и общий характер всех черепах. Отклонения от "главной темы" здесь незначительны, больше всего они наблюдаются у морских черепах.
Сухопутные черепахи, как и многие пресмыкающиеся, обнаруживают тесное сродство с теплом и сухостью, т.е. с теми качествами, которые имеют близкое отношение к процессам затвердения и ороговения. Ведь европейские наземные черепахи обитают в степной местности, в сухой траве и даже в дюнах. Сообразно своей неагрессивной сути они питаются там разными растениями, отдавая весной предпочтение молодым побегам. Если лето выдается особенно засушливым и растительность выгорает, черепахи уединяются, например, зарываясь в грунт возле какого-то куста. Холодную зиму эти существа с непостоянной температурой тела тоже проводят под землей в самостоятельно вырытой ими норе. Тогда они окружены двойной оболочкой - землей и собственным жестким панцирем.
Когда черепахи после зимней спячки вновь начинают принимать пищу, они снова немного подрастают; вторая фаза роста может наступить осенью, после летней засухи. Весна - это еще и время спаривания. Самка откладывает яйца (до 10) в вырытую хвостом ямку. Через два-три месяца из них вылупляются молодые черепашки. Это, по всей видимости, весьма трудный для них процесс - ведь на то, чтобы крохотные черепашки - а они лишь около 4 см размером - высвободились из яичной скорлупы и выбрались на поверхность земли, уходит в среднем 18 часов, а порой даже двое суток. После этого для них начинается весьма однообразная жизнь в узком пространстве. Только для спаривания или тогда, когда пищи становится недостаточно, черепахи покидают свой ареал, величина которого нередко составляет всего несколько квадратных метров. Таким образом, малой своей величиной жизненное пространство похоже на столь сильно замкнутое в себе существо. Все создает впечатление, будто мир черепахи скорее сосредоточен внутри нее самой, чем снаружи. При этом у нее весьма зоркие глаза и тонкое обоняние. Но если кто-то сам столь интенсивно отграничивает себя своим футляром, то и отношение к окружающему миру должно быть весьма сдержанным. Даже во время передвижения черепаха в значительной мере остается сосредоточенной в себе; она касается земли своими неуклюжими ороговевшими конечностями как бы самыми внешними точками.
Внешний корпус этого своеобразного животного формируется в результате необычайно интенсивного процесса затвердения. Почти вся кожа затвердевает в виде роговых щитков. Под роговым слоем находится компактный костяной панцирь. ПО его своду проходит позвоночник. От каждого позвонка по обе стороны отходят узкие костяные пластины, которые в своей совокупности и образуют купол. Они представляют собой расширенные ребра (Costalia), находящие свое продолжение в окраинных пластинах (Marginalia). Снизу такие костяные пластины сливаются с рядом плоских костей - пластроном, а те - с грудиной, образуя как бы грудную клетку. Части брюшного панциря соответствуют главным образом ключицам и некоторым брюшным ребрам. Хребет образуется из расположенных в ряд так называемых позвоночных пластин (Neuralia), сросшихся с остистыми отростками позвонков.
Костяной корпус нашей черепахи - не что иное, как грудная клетка, претерпевшая своеобразную трансформацию. Грудная клетка обычно представляет собой некую конструкцию, обрамляющую определенное пространство и образуемую рядом подвижных костяных пластин - ребер. Здесь же процесс образования костей интенсивнее обычного. Ребра и служащие их продолжением окраинные пластины увеличиваются в длину и в ширину и превращаются в затвердевшую грудную клетку. В чем же причина такого усиления процессов образования костей?
Дело в том, что формирование ребер, как и костей конечностей, обычно проходит промежуточную хрящевую стадию. Панцирь черепахи состоит, однако, главным образом из так называемых покровных костей, формирующихся в глубинных слоях кожи непосредственно, минуя хрящевую стадию. Этот способ вообще характерен для формирования черепных костей. Здесь же он распространяется на формирование грудной клетки. Таким образом ее кости срастаются в твердый футляр, как это обычно происходит только с черепом.
У каждого животного приходится отыскивать тот орган, который становится ключевым для понимания этого животного в целом. Для того, чтобы понять черепаху, за отправную точку, видимо, следует взять ее череп. Череп черепахи отличается от черепов других современных пресмыкающихся. Обычно в височной области черепа мы находим отверстия, так называемые височные ямы. Только у черепах череп представляет собой сплошную, полностью замкнутую (анапсидную) капсулу. Господство интенсивного процесса костяного обособления обнаруживается не только в мозговой коробке. В своем развитии оказываются подавлены челюсть и нос, хотя из-за своего удлинения они обычно вырастают сильно вдающимися в окружающее пространство. На челюстях нет зубов, а есть лишь режущие роговые образования. Такого преобладания процессов костного обволакивания» мозга над развитием прочих частей черепа нет ни у одного другого пресмыкающегося, а также ни у кого из млекопитающих.
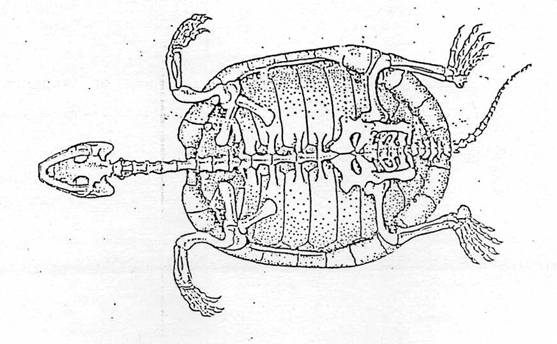
Верхняя часть панциря черепахи, вид снизу

Скелет и внутренний вид вскрытого сбоку панциря сухопутной балканской черепахи
Такое интенсивное обособление и затвердение сказывается на всем организме, но более всего на том органе, который и без того со всех сторон окружает внутреннюю среду костяными пластинами. Итак, грудная клетка отвердевает и превращается в костяную полость, которая обнаруживает некоторое сходство с мозговой коробкой черепа. Тенденция к обволакиванию и затвердеванию проявляется и в формировании конечностей. Их членение на пальцы полностью исчезает, а вместо того из ороговевшей оболочки выдаются одни лишь когти. Этому соответствует и тяжеловесность движений черепахи. То, насколько формирование черепа сказалось на конечностях, становится заметным тогда, когда черепаха удаляется из своего окружения для ежедневного сна или на зимнюю спячку. На это время скрываются и ее ноги. Черепаха словно ставнями запирает ими передние и задние отверстия своего жилища. Здесь и происходит интеграция конечностей в черепообразную полость.
Мы можем также проследить, как протекает формирование отдельных органов. В наибольшей мере сформированным, разумеется, на общем фоне класса пресмыкающихся - выступает именно тот орган, который окружен черепной капсулой, т.е. мозг. Обычно главными органами грудной клетки являются легкие, наряду с сердцем. Показательно, что среди пресмыкающихся у черепах «самые объемистые легкие… они могут заполнить собой большую часть спинного панциря» (Ziswiler, 1976, с.321). Лёгкие высокоразвиты. Бронхи сильно разветвлены, благодаря чему воздух вбирается внутрь организма значительно глубже, по сравнению с другими пресмыкающимися. Как же черепахи дышат в своей окостеневшей грудной клетке? «От спинного панциря отходят четыре связанные друг с другом мембранообразные мышцы. Они образуют некое подобие мешка... вокруг внутренностей черепахи. Выдох производится сокращением этих мышц. Вдох осуществляется с помощью четырех внешних дыхательных мышц, расположенных в боковых полостях. В результате (их) сокращения... воздух втягивается в легкие. При этом внутренние дыхательные мышцы пассивно занимают свое исходное положение» (Mirwald, 1990, с.269). Наша черепаха - животное травоядное, будучи лишенной в силу всей своей конфигурации какой бы то ни было агрессивности по отношению к окружению. Длина кишечника у нее из-за этого довольно велика по сравнению с большинством прочих пресмыкающихся (примерно в девять раз длиннее туловища). Весьма характерные особенности обнаруживаются и у яиц, которые откладываются самками в самостоятельно вырытые ямки. Эти яйца бывают почти круглой формы и обладают твердой скорлупой в отличие от яиц большинства других пресмыкающихся.
Если постичь то, каким образом формирование черепа отражается на всем организме, тогда понятными становятся и другие феномены. Дыхание протекает весьма медленно, редок и пульс. Рост и развитие черепахи тоже замедлены. Лишь в десятилетнем возрасте черепахи достигают половой зрелости. Если учесть, что балканская сухопутная черепаха живет от 40 до 50 лет, то становится очевидным сдержанный характер ее роста. Окостенение - процесс, который всегда связан с убавлением жизненных сил. Жизненные процессы в костной ткани протекают во многом именно как бытие некоей формы. Коль скоро процессом формирования костей, а тем самым и склеротичной тенденцией. оказывается охвачен весь организм, то приглушенными становятся и процессы жизни и роста. Недаром даже молодые черепахи выглядят старыми и дряхлыми.
Р А К У Ш К А (ДВУСТВОРЧАТЫЙ МОЛЛЮСК)
Низшие животные с намного более простой организацией, чем у млекопитающих, птиц и даже рыб, доступны нашему пониманию лишь с трудом. Многие из них производят на нас впечатление, но вместе с тем остаются чуждыми, как, например, кораллы и медузы, морские ежи и звезды. А некоторые из них ведут столь уединённое существование, что у них с трудом можно обнаружить то, что обычно ассоциируется со словом «животное», а именно: движение, внешнее проявление внутренних переживаний, вожделение и страсть. К таким животным относятся ракушки (двустворчатые моллюски), которые вместе с более подвижными улитками и головоногими входят в один общий тип моллюсков или мягкотелых.
Известно множество видов и подвидов ракушки - пресноводных, главным образом, обитающих в морях и океанах – от мелководных прибрежных зон со сменой приливов и отливов до крайних глубин, куда уже не проникает свет. Так, к примеру, ракушки были обнаружены в 70-х гг. даже в горячих сернистых источниках. Ракушки бывают самых малых размеров, как, например, горошинки, которые встречаются, прежде всего, на дне пресных озер и достигают размера всего в несколько миллиметров. Но они могут приобретать и такие масштабы, как гигантские ракушки Индийского и Тихого океанов, створки которых раньше использовались в качестве умывальных раковин. Мы, однако, не стремимся дать описание какой-то отдельной ракушки - например, жемчужницы, беззубки или устрицы, - а рассмотрим то общее, что присуще всем им, хотя и с некоторыми модификациями.
Если найти и взять в руки ракушку, то увидеть можно лишь ее раковину. Обе ее половины, левая и правая, настолько герметично закрывают ее внутренность, что некоторые ракушки обнаруживают сходство с камнями. По концентрическим полосам роста заметно, что раковина формируется в результате ритмично протекающего процесса. Нежная ткань, прилегающая изнутри к створкам раковины, достраивает по их краям новые известковые кольца (из кальцита), что нередко происходит в годичном ритме. Такой рост раковин сопровождается у многих видов ракушек еще одним процессом. В отличие от матовой внешней поверхности (она покрыта тонкой оболочкой - периостракумом), внутренняя поверхность имеет нежно-серебристый блеск. Этот блеск возникает из-за тонких слоев известковых отложений особой модификации (аргонита), который выделяется мягким телом ракушки в виде так называемого перламутра на внутреннюю поверхность раковины. Формирование раковины для ракушки представляет собой, по всей видимости, жизненно важный процесс, который в большинстве своем протекает не вполне симметрично. Так, на заднем конце створки раковин имеют удлиненную форму, а спереди они более широкие и округлые.
Когда ракушку ничто не беспокоит, створки открываются. Широко раскрытыми они, правда, не бывают никогда. У тех ракушек, которые лежат на дне водоемов или прикрепились к камням или сваям с помощью волокнистых выделений (как, например, мидия), это сдержанное самораскрытие обеспечивается эластичной связкой (лигаментом), находящейся между обеими створками. Из приоткрытой ракушки иногда немного высовывается некое мясистое образование. Зоологи именуют его ногой, хотя точнее было бы называть его языком. Во-первых, благодаря своим мышцам этот орган так же подвижен, как и язык. Во-вторых, он соответствует ползательной подошве улитки, которая передвигается по слизи, выделяемой специальной железой этой подошвы, которая, к тому же, обладает и вкусовой чувствительностью благодаря большому числу рецепторов, расположенных в значительной своей части по краям подошвы. Некоторые ракушки могут менять свое местонахождение, погружая свой язык в субстрат и затем немного, сокращая его. Таким образом, ракушка как бы пролизывает себе путь.
Когда ракушка потревожена, то с помощью одной или двух мышц она закрывает створки. Иногда она совершенно уединяется внутри своей раковины на несколько дней или недель. Ракушки, обитающие в зоне приливов и отливов, в целости пережидают в таком состоянии период отлива. На пустых раковинах видны отпечатки одной или обеих замыкательных мышц, способных сокращаться на столь длительное время.
Другие ракушки обособляются от окружающего мира еще сильнее, при этом они внедряются своим языком в грунт, где и живут в песке или иле. С морем они сообщаются только через тонкую трубочку, так называемый сифон.
Внутренняя организация ракушки проста. Легко ошибиться, присваивая органам ракушки обозначения желудка, кишечника, сердца, крови и т.д., и навязывая мысль о наличии некоей связи этих органов с одноименными органами более развитых животных.
Чтобы понять устройство ракушки, необходимо более внимательно изучить ее взаимоотношения с окружающим водным пространством. Через отверстие на заднем конце раковины (т.н. сифон) внутрь ракушки непрерывно поступает ток воды. Этот ток вновь выводится наружу через второе отверстие, расположенное несколько ниже первого (тоже именуемое сифоном). Таким образом, ракушка отнюдь не столь изолирована, как может поначалу показаться. Пребывает в постоянном контакте со своим окружением. У разных ракушек измерили это движение воды. Относительно небольшая черностворчатая мидия, колонии которой нередко образуют целые отмели, при температуре воды около 14°С за один час пропускает около 1,5 литра морской воды. Через более крупную ракушку сердцевидку при температуре 18°С проходит около 2,5 литров в час. У устриц, прикрепившихся правой створкой ко дну, поток воды еще мощнее. У устрицы обыкновенной он составляет 12,5 литров в час при температуре воды 18°С, а у американской устрицы - 18,1 литров при температуре воды 20°С, а при температуре 24°С - даже 37 литров. Можно получить представление о том, какие количества воды протекут через ракушку, например, за неделю, и насколько интенсивно ракушка вплетена в жизнь моря.
Эти потоки воды возникают внутри ракушки. Непосредственно под створками расположена ткань, из выделений которой образуется раковина, это так называемая мантия. Она окружает пространство, в котором находится «нога». В промежутках между «ногой» и «мантией» в воде свисают жабры, обычно в виде тонких мелких сетей, по две с каждой стороны. Их поверхность, как и поверхность мантии, покрыта множеством ресничек, создающих и направляющих ток воды. При этом они извлекают из воды необходимый для жизни ракушки кислород. Он поступает в жидкость, курирующую в организме ракушки главным образом по складкам тканей, так называемым лакунам. Эта жидкость у большинства ракушек не содержит кровяного пигмента, который связывал бы кислород наподобие гемоглобина у более развитых животных. Таким образом, у ракушек нет крови и замкнутой системы кровообращения. Эту жидкость скорее можно сравнивать с лимфой, которая пронизывает ткани различных органов у высших животных. Но что же в организме ракушки соответствует крови, которая только и доставляет кислород в ткани высших животных? Эту роль выполняет как раз тот ток воды, который непрерывно проходит через ракушку. Но где же тогда легкие, поверхность которых поглощает кислород из воздуха? Отчасти их заменяет поверхность моря или озер и рек, через которую кислород и проникает из атмосферы в воду. Атмосферный кислород в немалой своей части образуется в результате ассимиляционных процессов у растений, в том числе и у морских водорослей. Получается, что ракушки поглощают и тот кислород, который водоросли выделяют в воду. Таким образом, разделяющей границы, сопоставимой с поверхностью легких, не существует.
Питание органов высших животных осуществляется через кровь. Как же это происходит у ракушки? Ракушка питается весьма своеобразно. Самые грубые из частиц, попадающих в ее «желудок» и «кишечник», не превышают по своим размерам 0,05 мм, а иногда и 0,001 мм. Пища ракушки уже изначально находится в сильно растворенном виде. К тому же ракушки питаются веществами, которые в избытке производятся и выделяются водорослями в окружающее водное пространство в процессе ассимиляции. Здесь нет потребности даже в довершении пищеварительного процесса. Другие феномены также свидетельствуют о том, что нельзя вести речь о наличии у ракушек органов пищеварения наподо6ие высших животных. Что же за существо ракушка коль скоро кровеносная система, дыхание и во многом пищеварение - процессы, которые относятся и к окружающей её природе? По-видимому, взгляд на ракушку будет неверен, если смотреть только на раковину и содержащиеся внутри органы. Изучая высших животных, всегда необходимо учитывать их связь с окружающей средой. Что касается ракушки, то окружающий мир выступает частью её организма, которая как бы еще не обрела свою индивидуальность.
Сравнивая ракушку с более совершенным устройством млекопитающих, можно заметить, что ряд элементов этого устройства у неё отсутствует. У неё нет конечностей. Нет у неё и туловища. Для туловища характерно членение на сегменты в процессе развития, а в развитом состоянии - наличие позвоночника. Туловище выступает носителем важных органов жизнедеятельности организма: легких, крови и органов кровообращения, а также органов пищеварения. Мы уже видели, как обстоит дело с этими органами у ракушки. Таким образом, получается, что ракушка - существо, которое на простейшем уровне соответствует голове?
Чтобы придти к правильному мнению, необходимо учесть, что различные образования, находящиеся у млекопитающих и человека на голове, относятся вообще-то к остальному организму и что голова являет собой нечто целое вместе с этой остальной частью организма; поскольку конечности, легкие и т.д. проявляют себя и в голове: конечности представлены челюстью, легкие - носом. Даже головной мозг можно рассматривать в качестве более высокой ступени развития спинного мозга. Коль скоро ракушка -существо без туловища и конечностей, то и голова ее должна быть проще, чем у более развитых животных. Ведь в ней не должно быть тех частей, которые соответствуют туловищу и конечностям.
В итоге складывается впечатление, будто в ракушке воплотилась главным образом то свойство головы, которое выражается в самоограничении - в данном случае с помощью процесса окостенения раковины. Но это не все. Когда ракушка открывает свои створки, она проявляет значительную чувствительность по краям мантии. 0на мгновенно реагирует на тень, ослабляющую силу света. Она ощущает и наличие растворенных в воде веществ. У некоторых ракушек в качестве органов вкуса или обоняния даже формируются чувствительные волоски (щупальца). Есть, наконец, небольшое число двустворчатых моллюсков, чувствительность которых к свету и тени достигает своей кульминации в том, что у ракушек формируются глаза. Возникает своеобразное впечатление, когда гребешок раскрывает свою раковину красивой формы и направляет на окружение свои многочисленные глаза - глаза со зрачком и хрусталиком, каждое из которых имеет поле зрения от 90 до 120 градусов. Все эти глаза образуют в своей совокупности единый орган зрения, с помощью которого это простое головообразное существо воспринимает освещенность водного пространства, будучи столь тесно связанным с ним.
С л о н
Разные животные производят на нас, и особенно на детей, весьма разнообразные впечатления. Свои переживание часто трудно облечь в слова. Животные будто бы «говорят» с нами, но наши переживания оказываются размытыми. Мы не в состоянии рационально объяснить эти впечатления. Есть и такие животные, впечатление от которых особенно сильно расходится с их пониманием. К ним относится слон, которого мы воспринимаем в качестве одного из наиболее значительных животных.
Зоолог относит хоботных к отдельному отряду, например грызунов или хищников. Этот отряд объединяет всего лишь два вида: слона африканского (Loxodonta) и cлона индийского (Elephant). Они отличаются друг от друга формой лба, величиной ушей и бивней, количеством ребер, строением коренных зубов и т.д. Однако по основным своим признакам они весьма схожи друг с другом; и те и другие образуют семьи, которые временами сходятся в крупные стада. Такие семьи слонов обычно состоят из нескольких самок и их детенышей. Самец не всегда входит в состав такой группы, роль вожака в которой обычно выполняет старая опытная самка. По этой причине речь далее пойдет о слонах вообще, и лишь в отдельных случаях мы будем обращаться к тому или иному конкретному виду.
Начнем с несущественного на первый взгляд признака - веса животного. В таблице, содержащей данные о самых тяжелых млекопитающих (см.Flindt, 1985, с.16) можно найти следующие показатели:
| Синий кит | 136 т |
| Финвал | 76 т |
| Кашалот | 53 т |
| Косатка | 6,35 т |
| Африканский слон | 6 т |
| Индийский слон | 5 т |
| Носорог | 3,6 т |
| Бегемот | 3,2 т |
В сравнении с крупными китами - исполинами среди млекопитающих - слон выглядит довольно скромно. Но это мнение ошибочно. Синий кит, конечно же, превосходит слона по своей массе, но не по относительному весу. Дело в том, что гиганты морей легки в воде. Слон, таким образом, - самое тяжелое животное. Его движения, однако, не выдают нам этой его тяжести. Они производят впечатление легкости, кажутся подчас почти танцующими. Причина кроется в строении его уникальных в мире животных конечностей. Ноги имеют форму массивных колонн. В коленях и соответствующих суставах передних конечностей они вытянуты почти в прямую линию. Ведь когда у других млекопитающих коленный сустав находится под каким-то углом, то здесь проявляется определенное напряжение, т.е. некоторое стремление к движению. В выпрямленных ногах слона не вибрирует ни малейший двигательный импульс. Слон отдыхает в себе, когда находится в стоячем положении. В отличие от других животных ему не приходится использовать напряжение мышц, чтобы справляться с тяжестью своего тела. Разгрузку для слона создает то обстоятельство, что эту тяжесть тела несут кости. Слон не обречен на постоянное противодействие силе тяжести.
Он освобождается от ее оков и может открыто обратиться к своему окружению. Это становится возможным только благодаря крепкому строению костей. Вообще, среди млекопитающих процесс образования костей как бы достигает своего апогея именно в слоне - ведь кости составляют около 25% его веса. Помимо этого, конечности слона отличаются наличием студенистой подошвенной подушки, на которой и покоится весь скелет ноги. Таким образом, при каждом шаге этого иноходца обеспечивается эластичная амортизация тяжести тела. Устанавливается чувствительный контакт с поверхностью земли. Эти мощные животные практически бесшумно пробираются сквозь заросли. Слоны ходят "тихо как кошки". Уверенная манера справляться с тяжестью как бы сообразна размерам тела.
Голова слона тоже будто выражает его погруженность в себя. Ведь обычно на голове животных сказывается ее горизонтальное расположение. Пасть и нос являются выражением жадного влечения к пище и аффектного отношения к веществу. То и другое оказывается подавленным в вертикальном размещении головы слона. Широкий лоб непосредственно переходит в хобот. Верхняя и нижняя челюсти отодвигаются на задний план. Даже во время еды слон сохраняет свою спокойную осанку. Своим хоботом он подносит к пасти траву и ветки.
Вообще-то, в голове слона все необычно. Большие уши свидетельствуют об интенсивной сориентированности слона на шумы и звуки в атмосфере, которой соответствует и высокая внутренняя чувствительность. Так, например, в широко разбросанном стаде индийские и африканские слоны могут общаться друг с другом с помощью звуков в инфразвуковом диапазоне. Рассказывают, что при соответствующей дрессировке слонов можно научить различать мелодии и музыкальные ритмы. Наиболее характерным органом у слона является хобот, в котором соединяются нос и верхняя губа. Нет ни одного другого животного, у которого нос столь сильно вдавался бы в воздушное пространство. Процесс вдоха начинается на большом расстоянии от головы. Тем самым воздух вбирается глубоко вовнутрь. На самой голове нос чрезвычайно широк. Из-за мощной переносицы глаза широко разведены в разные стороны. То, что принято называть лбом, представляет собой, собственно говоря, продолжение носовой полости. За лобной костью расположен не головной мозг, а разделенная на множество полостей лобная пазуха удивительных размеров. Интенсивное всасывание воздуха через хобот явно находит свое продолжение в подобной пневматизации черепа.

1 - полость черепа
2 - коренные зубы
3 - носовая полость
Череп слона без челюсти
Прежде всего, обращают на себя внимание крупные, заполненные воздухом полости в костях черепа
Хобот слона, - пожалуй, самый удивительный орган в животном мире. Его подвижность и ловкость постоянно сравнивают с человеческой рукой. Эта ловкость действительно совсем иного характера, чем та, которую мы наблюдаем в прыжках белки или же в скачках горного козла по скалам. Ловкость слона заключена не в движениях туловища, а в умении владеть органом, который преисполнен дифференцированной осознанности. Особенно хорошо развиты тактильная чувствительность на периферии и, прежде всего, двигательная чувствительность (ощущение глубины) мускулатуры. Чувствительная подвижность хобота наверняка обусловлена и тем, что верхняя губа как бы вливается в него. Ко всему прочему слон оперирует хоботом практически постоянно в поле своего зрения, как и человек - своей рукой.
Хобот, как и рука, - весьма универсальный орган. Им слон хватает пучки травы и ветки и ловко подносит их к пасти. С его помощью слон пьет, всасывая сначала в хобот немного воды, чтобы потом впрыснуть ее себе в рот. Кончиком хобота, как двумя пальцами, слон может трогать мелкие предметы. Хобот служит ему и для определения запахов, поскольку слон обладает тонким обонянием. Наконец, хобот служит своеобразной трубой, с помощью которой слон издали возвещает о себе.
Чтобы понять слона во всем его своеобразии, за отправную точку необходимо взять именно этот орган. Каким же образом усиленное развитие носа и верхней губы сказывается на устройстве всего остального организма? Тенденция усиленного вырастания наружу охватывает резцы верхней челюсти, и преобразует их в бивни. Как уже упоминалось, эта тенденция влияет на голове и на те органы, с помощью которых слон направляет свое внимание на звуки, а именно на ушные раковины. Здесь у слона возникает интенсивный контакт с воздухом - у африканского слона поверхность ушей составляет добрую пятую часть всей поверхности тела. Через них слон может отдать в атмосферу значительную подчас долю тепла, образующегося в организме в результате обмена веществ.
Процесс глубокого вбирания воздуха в организм не только приводит к пневматизации черепа, а находит свое продолжение в органах туловища. Здесь необычайно широка грудная клетка (см. рис.). У азиатского слона образуется 19 пар ребер, а у африканского - даже 21 пара. Соответственно, велики и размеры легких. Вес легких лошади составляет 0,7% общего веса её тела, а у слона - 2,08%. Интенсивный процесс самонаполнения воздухом распространяется широко, охватывая и кровь. Так, кровь слонов отличается особенно большой кислородной емкостью, которая «почти столь же велика, как и у приспособленной к высотным условиям ламы» (Heibl, 1987, с. 14). Взаимосвязь слонов с процессом дыхания теснее, чем с пищеварением. Правда, большая часть дня у них уходит на еду - африканские слоны, будучи жителями саванны, питаются главным образом травой, а индийские слоны, обитающие большей частью в тропических и субтропических лесах, кормятся преимущественно листьями и ветками. Бывает, что своими бивнями слоны сдирают с деревьев большие куски коры. Они наносят вред деревьям и иным способом – ломая небольшие деревья, чтобы легче добраться до листвы и ветвей. Существенные расхождения обнаруживаются в числовых данных о количестве ежедневно поглощаемой пищи. По индийским слонам они колеблются от 144 до 364 кг зеленой массы в день. Но переваривается лишь менее половины этой массы. А длина кишечника не столь велика для такого крупного животного. Так, у лошади длина кишечника достигает 31 м, а у намного более крупного по размерам слона - 37 м. Взрослому слону требуется около 130 л воды в день. По этой причине слоны регулярно направляются на водопой, где они и купаются. В период длительной засухи вожаку-самке иногда приходиться вести свое стадо более чем за сотню километров до водопоя, так как остальные источники пересохли. Она «знает» это место, даже если лишь однажды ходила к нему много лет назад. Слоны - животные, которые в течение долгих лет остаются под влиянием пережитых впечатлений. Принято говорить - хотя это и не вполне точно - о том, что у слонов хорошая память.
Мы уже рассматривали строение конечностей. Оно тоже находится во внутренней связи с хоботом. Ведь нос и верхняя губа имеют возможность вступать в столь прочный контакт с атмосферой и приобретают способность столь ловко вмешиваться в свое окружение лишь благодаря тому, что с помощью конечностей весь организм освобождается от оков силы тяжести.
Те свойства, которые обычно связывают с понятием звериного, оказываются сильно смягченными в характере слона. В отличие от других животных он не проявляет сильных страстей и жестко фиксированных стереотипов инстинктивного поведения. Даже в возрасте 40 лет слоны способны учиться новым трюкам. В неволе они приручаются за короткое время и легко поддаются дрессировке для использования на работах. Особенно отличаются индийские слоны, которые могут выполнять весьма сложные виды работ в джунглях Юго-Восточной Азии (транспортировка и погрузка стволов деревьев). Здесь, наверное, и можно получить самое сильное впечатление от обусловленных положением тела слона способностей животного активно вмешиваться в свою окружающую среду с помощью хобота и бивней.

Силуэт и скелет индийского слона
В первую очередь, заметно, что у взрослого слона что-то остается от того открытого и неустоявшегося характера, какой бывает у млекопитающих в период детства. В столь зрелом облике слона, в котором чуть ли не проглядывает настоящая личность, еще велико влияние сил молодости.
Они и дают слону возможность расти до преклонного возраста и удлиняют период его молодости. Уже само появление слона на свет - событие особого ранга. Слоны всего стада образуют круг. В центре располагается готовая разродиться слониха. Она беспокойна и то встает, то снова ложится. Рядом с ней стоят две самки, которые ассистируют при родах. По-видимому, они освобождают новорожденного от оболочек. Примерно через полчаса после рождения слоненок может стоять на ногах. Тогда собрание расходится, и слониха со своим слоненком следуют дальше со своим стадом (Кurt, 1986, с.154). Слониха вскармливает детеныша молоком в течение двух лет. Имеются, однако, наблюдения, которые свидетельствуют о том, что африканские слоны кормят детенышей молоком иногда вплоть до девятилетнего возраста (Douglas-Hamilton, 1976, с.84). Половая зрелость наступает лишь к 10-12 годам. После этого самка телится только раз в четыре года. Пока она кормит малыша, течки у нее не бывает. Мать полностью отдается своему детенышу. Затем наступает новая беременность, которая длится почти два года. Но интервал между родами может растянуться и на семь лет.
Ослаблены силы, останавливающие процессы развития и роста. Стремительно приводят процесс роста к завершению главным образом формообразующие силы. Там, где процесс образования форм господствует, как, например, в зубах, процесс роста угасает полностью. В то же время формы, которые мы видим в зубах, присущи им изначально. В отличие от других органов они не возникают постепенно в процессе роста. Дело же именно в том, что процесс формирования зубов у слона сильно видоизменен по сравнению с другими млекопитающими. С каждой стороны челюсти у слона находится по одному, хотя и весьма мощному коренному зубу. У молодых слонов коренные зубы меньше размером. Когда они снашиваются, их заменяют новые зубы. Зубы у слона меняются пять раз, при этом они с каждым разом увеличиваются. Обычно коренные зубы довольно быстро прорезаются один за другим. У слона же этот процесс растянут на многие годы. Последние коренные зубы вырастают у него примерно лишь к 33 годам. Процесс образования окончательных форм, таким образом, в высшей степени запаздывают. А то, что при смене зубов происходит увеличение их размеров, и есть процесс роста в рамках процесса формирования зубов. Это, пожалуй, и есть самый наглядный признак удлинения периода детства и юности. Развитие слонов протекает в столь медленном темпе не только после их рождения. Период эмбрионального развития растянут у индийского слона до 20, а у африканского слона - до 22 месяцев. Он длительнее, чем у всех прочих млекопитающих. А продолжительность жизни слонов - более 60 лет.
Существует ли какая связь между формированием облика животного и особенностями его развития? На всем внешнем облике слона сказывается наличие хобота, иными словами, процесса глубокого вбирания воздуха в организм. В результате столь интенсивного дыхания кровь усваивает кислород в чрезвычайно высокой степени. Известно, что процессы роста в период детства зависят от наличия высокой концентрации кислорода в крови. Внутреннее дыхание дает импульс жизненным процессам во всем организме. Интенсивность этих импульсов особенно высока в детстве, а потому они необходимы для повышения активности жизненных процессов в период роста. Эти процессы, которые обычно в скором времени сходят на нет, относятся у слона к постоянным компонентам его конституции. Сколь ни парадоксально, но слон - самое «детское» животное среди млекопитающих и именно потому и становится таким великаном.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 480; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
