Семнадцать пунктов Асакуры Тосикагэ. 1 страница
Кодекс Бусидо.
Хагакурэ. Сокрытое в листве.
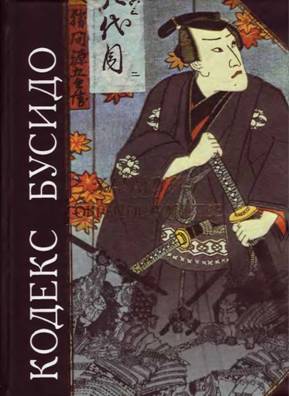 |
Когда в мире царит спокойствие, благородный человек не расстается со своим мечом.
У Цзы
Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора имеются два пути, существует лишь быстрый и единственный выход — смерть.
Это не особенно трудно.
Хагакурэ
Об этой книге
Весной 1592 года войска некогда могущественного клана Такэда были почти полностью уничтожены. Армия противника в десять раз превосходила силы клана. Предводитель клана сбежал, а его войска были обращены в бегство. Бывший долгое время и немилости воин Цутия Содзо1 со словами: «Где же теперь те, кто ежедневно произносили храбрые речи?» одни вышел на поле боя и погиб в сражении, исход которого был очевиден.
В 1944 году, поздней осенью, лейтенант военно-морских сил Японии Тэси Харуо находился на небольшом острове в Тихом океане. Однажды его гарнизон получил по радио сообщение о том, что крупное американское соединение движется к Филиппинам, уничтожая по пути все японские гарнизоны. Возможность бегства даже не обсуждалась. Лейтенант проверил, безупречно ли выглядит его форма, и приготовился встретить смерть.
*
Эти два события случились в эпохи, очень далекие друг от друга, но имеют одно объяснение — оба японских воина, средневековый и современный, поступали в соответствии с бусидо — неписаным кодексом поведения воина в обществе, сводом правил и норм «истинного», «идеального» воина, философией, корни которой уходят далеко вглубь истории.
|
|
|
Слово бусидо состоит из трех иероглифов, первые два составляют слово буси — единственное слово из нескольких имеющихся в японском языке для обозначения понятия, наиболее точно передающего сущность воина.
В первом иероглифе «бу» ключом является иероглиф со значением «останавливать».
А второй частью знака — сокращенный вариант идеограммы, обозначающей «копье».
Древний китайский словарь Шу Вэнь дает следующее пояснение: «Бу заключается в способности подчинить себе оружие и, следовательно, остановить копье». В другом древнекитайском источнике (книге Цзы Чуань) мы находим более подробное толкование, в котором говорится, что бу включает в себя бун, то есть литературу, каллиграфию и в более широком смысле все невоенные искусства.
Бу запрещает насилие и подчиняет оружие — «останавливает копье».
Иероглиф «си» в современном японском языке имеет значение «военный», «воин», «мужчина» и даже «благородный человек». А первоначально, в Китае, этим словом определялись люди, которые обладали мастерством в определенной сфере и занимали свое положение в обществе благодаря учености, однако готовы были взять в руки оружие, когда это необходимо.
|
|
|
Таким образом, буси — это человек, способный сохранять мир как с помощью искусства, так и военными средствами.
Третий иероглиф — «до» — обозначает Путь — важнейшее для большинства восточных философий понятие, в данном случае объединяющее эти на первый взгляд несовместимых качества — бун и бу, в образе жизни «идеального» человека.
*
Общество японского средневековья было феодальным, в нем каждый имел своего господина и обязан был ему служить. Поэтому «идеальному» человеку в жизни надлежало выполнять именно функции слуги, или самурая.
Начиная с середины периода Хэян2 самураи (буквально это слово означает — «тот, кто прислуживает знатному человеку») стали охранять высшую знать и поэтому всегда были вооружены. Поскольку слуг все чаще набирали из сословия воинов, термин самурай к концу 12 века стал полным синонимом слова буси. В дальнейшем понятие самурая ассоциировалось лишь со слугами
крупных феодалов, происходившими из высшего и среднего эшелонов военного сословия, имевшими отношение к управлению государством или кланом.
К началу 13 века можно отнести возникновение буси как класса. Любопытно, что образ аристократа-воителя, типичный для древних хроник, отвечает действительности не целиком, поскольку ряды самурайского сословия укреплялись за счет представителей низших классов — пеших воинов асигару. Они не были так образованны, как имевшие аристократическое или даже императорское происхождение предводители военного сословия, и не имели тех средств, которыми располагали их вышестоящие соратники. Тем не менее, многим из асигару удавалось подняться по социальной лестнице и войти в верхнюю прослойку класса буси лишь благодаря выдающимся способностям воина. Это явление было особенно характерным для Периода Сражающихся Царств (Сэнгоку дзидай) — внутренней войны, которая длилась с 1467 по 1568 гг. В течение этого времени практически непрерывно на территории Японии возникали вооруженные конфликты между землевладельцами, каждый из которых стремился установить полный контроль над своей территорией. В 1568 г. Ода Нобунага, сын одного из даймё3, сделал успешную попытку положить начало воссоединению страны. После его смерти Тоётоми Хидэёси завершил этот процесс. Тоётоми Хидэёси, выходец из низкого сословия, сумел достичь выдающихся успехов, более того — стать самым влиятельным правителем в стране. По иронии судьбы, именно он указом от 1591 года запретил переходы из одного сословия в другое, и ограничил все японское общество рамками четырех классов — воинов, землевладельцев, ремесленников и торговцев.
|
|
|
|
|
|
*
Тексты, вошедшие в эту книгу, написаны представителями сословия воинов, и адресованы они также воинам. Здесь самураи рассказывают об идеалах своего сословия, но преследуют они при этом и вполне реальную цель — обеспечить стабильность и дальнейшее существование клана. Поэтому эти наставления старших молодым так искренни и полны жизненной энергии. Они были написаны ие для того, чтобы приятно проводить время за их чтением, а прежде всего — чтобы ими пользоваться. Однако, это вовсе не наборы
сухих инструкций, и литературная ценность этих текстов несомненна.
Проблема важности литературной подготовки для воина затронута во многих произведениях, вошедших в эту книгу. Сиба Есимаса (1350— 1410) в вопросах, связанных с культурой воина, был, пожалуй, наиболее красноречив и убедителен. Всю свою жизнь Сиба активно участвовал в военной и политической борьбе, но все же всегда находил время для занятий каллиграфией и изучения поэзии. В своем наиболее известном произведении «Тикубасё», которое он написал в изящном классическом стиле, Сиба Есимаса убеждает своего читателя, что стремление быть образованным не утратило актуальности для сам баллады («гунки моногатари»)урая со времен написания Хэйкэ Моногатари (около 1200 г.), эпической военной, прославлявшей идеал высокообразованного воина, способного достигнуть совершенства как в литературе и искусстве, так и в военном мастерстве.
Несколько отличается взгляд на этот вопрос, например, у Като Киёмасы (1562—1611). В инструкциях для своих самураев «независимо от звания» он поощряет учение, однако предельно четко ограничивает рамки того, что следует изучать. В его посланиях говорится, что необходимо читать книги по военному делу, особое внимание уделять таким добродетелям, как преданность хозяину и почитание родителей. Зато занятия поэзией запрещаются: «Мужчина неизбежно уподобится женщине, если откроет сердце для подобной утонченной изысканности. Если ты воин, ты должен стремиться крепко держать в руках длинный и короткий мечи и умереть». Также Като запрещает самураям заниматься танцами Но4; поскольку танцы не имеют отношения к военному искусству — воин, который занимается танцами, роняет свое достоинство, а значит обязан совершить сэппуку, то есть убить себя.
Однако несмотря на такое различие взглядов касательно образования, никто не ставил под сомнение тот факт, что одного военного мастерства недостаточно для полной гармонии воина.
*
Сэппуку — ритуальное самоубийство — занимает особое место в мировоззрении самураев. Особенно ярко это видно из Хагакурэ, сочинения Ямамото Цунэтомо.
Европейцам этот ритуал лучше известен под названием харакири. Оба слова записываются одними и теми же иероглифами —
Разное их прочтение обусловлено тем, что в одном случае иероглифы произносятся согласно китайскому чтению (сэппуку), а в другом — согласно японскому (харакири). Первое в Японии используется гораздо чаще, чем имеющее оттенок просторечия второе.
Самурай должен был совершить сэппуку, когда осознавал, что, согласно бусидо, его душа больше не может оставаться в теле. А согласно учению Дзэн основным жизненным центром человека считается не сердце, а брюшная полость. Таким образом, разрезая себе живот, воин выпускал душу из тела. Совершалось это всегда по требованию чести. Причиной могло быть оскорбленное достоинство воина, необходимость сохранения тайны или честного имени (своего и особенно господина), приказ господина совершить этот ритуал (в наказание или по любой другой причине), смерть господина, нежелание быть взятым в плен, лишение возможности применения своих профессиональных навыков воина.
Как разновидность сэппуку долгое время существовало явление дзюнси или цуйфуку — «самоубийство вослед»: когда добровольно уходил из жизни господин, самурай спрашивал позволения совершить сэппуку вместе с ним. Отказ хозяина в этой ситуации обрекал слуіу и всех его потомков на бесчестье. Сэппуку совершалось также в знак протеста против какой-либо несправедливости для сохранения чести самурая либо как жертва во имя идеи.
В период Эдо (1603—1807), когда обряд сформировался окончательно, основанием для совершения сэппуку мог также служить официальный приговор суда.
Сэппуку совершалось особым кинжалом — кусунгобу, имевшим длину около 25 см, или вакидзаси — малым самурайским мечом. В случае крайней необходимости самурай мог воспользоваться и большим мечом, взяв его за обернутое в ткань лезвие.
Рядом с самураем, совершающим сэппуку, обязательно должен был присутствовать кайсяку.
роль которого мог взять на себя лучший друг, ученик или родственник. После того как самурай вонзал кинжал в живот, кайсяку должен был одним взмахом меча отрубить голову воину, чтобы прекратить его мучения. Приемы сэппуку были канонизированы и преподавались с детства.
Такие представления о самоубийстве способны привести в ужас современного европейца, привыкшего к мысли о том, что жизнь человеку дается всего один раз. Однако здесь необходимо помнить, что древние японцы верили в многократное перерождение, и достойный уход из жизни считали важным основанием для нового лучшего рождения.
*
Настоящее издание состоит из двух частей.
В первой публикуются фрагменты глав вышедшей в 1716 году книги в одиннадцати томах Хагакурэ, название которой можно перевести как «Сокрытое в листве». Автором этого произведения, ставшего своего рода «священным писанием» для японских воинов, был Ямамото Цунэтомо — монах, в прошлом самурай, который, прослужив своему хозяину — даймё Набэсима Наосигэ, десять лет, после его смерти стал буддийским священником.
Тексты, которые вошли во вторую часть этого издания, представляют собой какун и юикаи — соответственно внутренние правила самурайских кланов и адресованные потомкам наставления, написанные главами династий самураев.
Сочинения, вошедшие в нашу книгу, можно воспринимать по-разному. С одной стороны, это исторические памятники — документальные свидетельства умонастроений далекой эпохи.
С другой, можно отнестись к ним как к литературным произведениям, дающим возможность ближе познакомиться с одними из наиболее выдающихся и интересных людей в истории Японии.
А можно искать в них одну из духовных основ современной японской культуры или пытаться с их помощью по-новому взглянуть на наши собственные ценности. Одно бесспорно: написанные в далеком прошлом, писания японских самураев полны столь могучей энергии, что даже в наш век информационной пресыщенности невозможно не поддаться воздействию этих простых, но удивительно ярких произведений.
Тарас Улищенко
Примечания
1 Во всей книге соблюдается традиционный порядок написания японских имен, согласно которому фамилия находится на первом месте.
2 То есть с начала 11 в. Период Хэян длился с 794 по 1185 гг.
3 Дайме (букв, «великий землевладелец») — феодальный владыка.
4 Таней Но — часть традиционного японского театра Но, исполняется в масках исключительно мужчинами.
Из 240 существующих пьес 100 были иаписаны Дзэами (1363—1441), к периоду жизни которого приписывают и возникновение театра Но. Одиой из эстетических осиов Но является учение Дзэн, однако многие пьесы строятся иа сюжетах из древней японской мифологии.
Хотя само собой разумеется, что самурай должен помнить о Пути самурая, похоже, все мы нерадивы. И поэтому, если бы кого-нибудь спросили: «В чем истинный смысл Пути самурая?», мало кто смог бы сразу ответить на этот вопрос. Причина в том, что нет готового заранее ответа. Отсюда можно судить о том, что человек не помнит о Пути самурая.
Ямамото Цунэтомо.
Хагакурэ. Сокрытое в листве.
Из первой главы.
Нерадивость непростительна.
*
Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора имеются два пути, существует лишь быстрый и единственный выход — смерть. Это не особенно трудно. Будь тверд в своей решимости и иди вперед. Рассуждения о том, что умереть, не достигнув своей цели, значит умереть собачьей смертью,— это досужая болтовня себялюбивых людей. Когда ты стоишь перед необходимостью выбрать жизнь или смерть, то достигнешь ты своей цели или нет, уже не важно.
Каждый из нас хочет жить. И по большей части мы строим свои рассуждения в соответствии с нашими предпочтениями. Но не добиться своей цели и продолжать жить — это трусость. Здесь нельзя ошибиться. Умереть, не достигнув цели, — это действительно собачья смерть и фанатизм. Но в этом нет бесчестья. В этом суть Пути самурая. Если, укрепляя свое сердце решимостью каждое утро и каждый вечер, человек сможет жить так, словно тело его уже умерло, путь будет для него свободен. Вся его жизнь будет безупречна, и он добьется успеха на своем поприще.
*
Хороший слуга, прежде всего, думает о своем господине. Это высшая категория слуг. Если человек принадлежит к известному роду, история которого насчитывает не одно поколение, важно, чтобы он глубоко осознал долг перед своими предками, отдал своему господину тело и душу и искренне почитал его. Еще большая удача, если, ко всему прочему, человек обладает мудростью и талантом и умеет ими правильно пользоваться. Но даже человек, ни на что не пригодный и чрезвычайно неловкий, будет надежным слугой, если только в нем есть решимость искренне заботиться о своем господине. Само по себе наличие мудрости и таланта принесет лишь самую малую пользу.
*
В соответствии со своей природой люди делятся на тех, чей разум быстр, и на тех, кому нужно время на то, чтобы собраться с мыслями и подумать. Если человек подходит к рассмотрению вопроса серьезно, не думает о своей выгоде и выполняет четыре обета самураев клана Набэсима1, его посетит удивительная мудрость, независимо от достоинств или недостатков, которыми он наделен от природы.
Люди полагают, что могут разобраться в глубоких материях, если хорошенько над ними подумают, но они мыслят неправильно
и ничего не добиваются, потому что размышления эти касаются лишь их собственных интересов.
Привычки глупца трудно превратить в самоотверженность. Однако когда возникает задача и нужно ее решить, то, если на время забыть о ней, укрепить в своем сердце решимость выполнить четыре обета и приложить усилия, не слишком отклонишься от своей цели.
*
По большей части мы действуем, полагаясь лишь на нашу собственную прозорливость, и вследствие этого мы стремимся к собственной выгоде, отворачиваемся от здравого смысла, и все идет не так, как следует. С точки зрения сторонних людей такой подход свидетельствует о своекорыстии, малодушии, узости мышления и приносит мало пользы. Когда человек не способен на истинное понимание, хорошо посоветоваться с кем-нибудь, кто обладает здравым смыслом. Советчик поступит так, как требует Путь, приняв решение после искренних и бескорыстных раздумий, поскольку лично его самого это не касается. Другие люди посчитают, что такой подход к решению вопросов имеет сильные корни. Решение, принятое с помощью других, можно уподобить большому дереву, которое имеет множество корней. Разум одного человека подобен дереву, которое просто воткнули и землю.
*
Мы узнаём о словах и деяниях людей былых времен для того, чтобы довериться их мудрости и не поддаться своекорыстию. Когда мы отказываемся от собственной предвзятости, следуем наставлениям древних и советуемся с другими людьми, все идет хорошо и удачно. Господин Кацусигэ почерпнул мудрость у господина Наосигэ. Об этом упомянуто в Оханасикикигаки. Мы должны быть благодарны ему за его заботу.
Был один человек, который взял к себе в услужение своих младших братьев, и когда он посещал Эдо или район Камигата, то брал их с собой. Поскольку он ежедневно советовался с ними как по личным, так и общественным делам, то, как рассказывают, он ни разу не потерпел неудачи.
*
Сагара Кюма полностью отдался служению своему господину и служил ему так, словно его собственное тело уже было мертво. Таких найдется один человек на тысячу.
Однажды в поместье Мидзугаэ господина Сакё проходила важная встреча, и Кюме было приказано совершить сэппуку. В то время в Осаке на третьем этаже загородной резиденции господина Таку Нуи располагалась чайная комната. Кюма снял это помещение и, собрав простолюдинов, устроил кукольное представление. При этом он сам управлял одной из кукол и вместе с остальными пил и веселился день и ночь напролет. Поскольку окна выходили на поместье господина Сакё, своими действиями Кюма причинил большие неудобства. Задумав это и приводя свою затею в исполнение, он благородно думал лишь о своем хозяине и был полон решимости совершить сэппуку2.
*
Быть слугой — это не что иное, как следовать за своим господином, доверяя ему решать, что хорошо и что плохо, и отрекаясь от
собственных интересов. Если найдется всего два или три человека подобного рода, владению господина ничто не грозит.
Если посмотреть на мир, когда все идет так, как следует, то можно увидеть много людей, которые оказываются полезными своей мудростью, интуицией и ловкостью. Однако, если господин удалится от дел или предпочтет жизнь в уединении, найдется много людей, которые быстро отвернутся от него и поспешат втереться в доверие к тому, кто в этот момент находится на вершине славы. О таком даже неприятно думать. И люди высокого звания, и те, кто занимает низкое положение, умудренные и опытные, полагают, что именно они работают так, как это надлежит делать; но, когда доходит до того, чтобы отдать свою жизнь за своего господина, у всех начинают дрожать колени. Это довольно стыдно. Тот факт, что в такие времена бесполезный человек часто становится воином, которому нет равных, объясняется тем, что он уже давно отдал свою жизнь своему господину и стал с ним единым целым. Пример тому был, когда умер Мицусигэ. Я оказался его единственным преданным слугой. Остальные не последовали моему примеру. Надменные, самоуверенные аристократы всегда отворачиваются от человека, как только смерть закрывает его глаза. Говорят, что в отношениях между господином и слугою, связанных обязательством, важна преданность. Хотя может показаться, что сохранить преданность — это недостижимая вещь, на самом деле она перед глазами. Осознав это однажды, в тот же миг станешь отличным слугой.
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 590; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
