НЕИЗВЕСТНОЕ ПРО ИЗВЕСТНУЮ ФОТОГРАФИЮ 26 страница
Усилия безвестной женщины-матери, спасающей в городе жизнь детей, продолжались и завершались в атаке танкистов или пехоты, в артиллерийской дуэли с фашистскими детоубийцами…
В блокадном музее Ленинградского педучилища № 5 учительница Любовь Борисовна Береговая показала нам оригинал письма из Ленинграда на фронт — тринадцатилетней Тани Богдановой отцу. Как хочется ребенку-ленинградцу, как необходимо ему пожаловаться солдату-отцу и как боится ранить своей болью, своей близкой гибелью того, кто спасает Ленинград! А ведь тринадцать лет ей, Тане Богдановой!
«Дорогой папочка! Пишу я вам это письмо во время моей болезни когда думала, что я умру и пишу из-за того что я жду смерть, а потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого нивинить. (В тексте ничего не правим. — А. А., Д. Г.) Сознаться по совести виновата я сома, так-как нивсегда слушалась маму. Дорогой папочка я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти да и мне-то помирать больно нехотелось но ничего не поделаешь раз судьба такая. Я знаю, что трудно вам будет понять мою болезнь так я о ней пишу вам ниже. Сильно старалась поддержать меня мамочка и поддерживала всем чем могла и что было. Она даже для меня отрывала и от себя и ото всех понемногу но так-как было очень трудно поддержать пришлось поэтому мне помереть. Папочка болела я в апреле, когда на улице было так хорошо и я плакала, что мне хотелось гулять, а я немогла встать с кровати так спасибо дорогой мамочки она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять. Дорогой папочка вы сильно не расстраивайтесь ведь и мне то умирать больно нехотелось потому-что скоро лето да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сома плачу, но сильно боюсь расстраиваться так-как руки и ноги начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать, жить больно хочется… Я сильно старалась, что-нибудь поделать что б не приходить в забытье но нет на это никакого желания лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь то вы мне начинаете казаться. Я уже стараюсь ничего не думать, но мысли не выходят из головы. Ну дорогой папочка очень не расстраивайтесь и к словам моей смерти прошу отнестись похладнокровнее. Очень я благодарна одной только мамочке да сестренкам с братишкой за всю их заботу и уход за мной, а особенно мамочки, которой я не могла высказать словами свою благодарность, спасибо большое ей, ведь они меня поддерживала всем чем могла».
|
|
|
Солдат Богданов вернулся с войны. Но дома у него погибло пятеро детей. И в их числе — Таня.
Сергей же Миляев увидел своих до того, как погиб сам. Они живут и сегодня, его дети. Но тогда ближе к смерти были они.
|
|
|
«19.2.42. С 11 часов утра 13.2 до 5 часов утра 16.2 дома в семье. Город смерти встречал и провожал трупами, темнотой, грязью, тишиной, зловещей тишиной. Встречен слезами и трупом Валички, отвез ее на братское… Шурик распух. Мария, Инна, Люда, думаю, выдержат… Через 4–5 дней опишу все,
убрать рекламу
сейчас же такой тяжелый осадок, что нет силы писать. Кроме того, физически так устал, вот уже два дня не могу отойти, прошел за 11 часов 60 километров.
20.2.42. По-прежнему физическая слабость, умственное отупение, благо, что занят делом, а то бы… Подождем…
22.2.42. Итак, я начинаю «Повесть для себя» о Ленинграде февраля 1942. В предрассветном тумане далеко высятся силуэты главных зданий красавца — родного города. А в 9.00 я уже был на улицах предместья (2-й Муринский).
Первая встреча — гроб, салазки с трупом без гроба, словом, саночки с трупом. Город внешне выглядит так, как он рисовался со слов других моему воображению: грязь, сугробы, снега, холод, темнота, голод, смерть.
Однако, пройдя пешком до Литейного моста по пр. Володарского, завернув к Московскому по пр. 25 октября, пройдя всю Невскую заставу и далее, везде встречал хмурые, изможденные, но твердые мужественные лица.
|
|
|
11.00 я у двери своей комнаты, с тревогой в сердце стучу и говорю: «Ребята, откройте». Там радостные восклицания: «папа» и рев, слезы. Мария: «Валичка померла».
Самое страшное — декабрь 1941 — январь 1942. Февраль уже стал месяцем надежды на самое лучшее: скорейший разрыв блокады (правда, февраль прошел, осталось 5 дней, и кольцо еще не разорвано полностью, и стремление к «слоеному пирогу» для немцев не освобождает пути ж. д. к городу и может скоро обернуться скучно, когда Ладога начнет пениться весенней распутицей).
500 гр. рабочим, 400 служащим, 300 иждивенцам и детям, немного подброшено мяса, крупы, сухих овощей… Я привез 1 кг хорошего мяса, немного рыбы, крупы, хлеба. С жадностью варили и ели три дня. Сам я отлеживался, отдохнуть давал ногам, готовил их к 60-ти-километр. переходу, ходил только за водой и немного пилил дрова. Печуркин дымоход плох, в комнате дымно, холодно, неприятно.
Радио работало все дни до ночи на 16.2 (я вышел из дома в 5.00. 16.2.42. по направлению к Финляндскому вокзалу), плохо согревался.
Первые мои слова при входе домой: «Живы! Родные!» И это чувство, что в основном взрослые мои и жена живы — это успокоительно бодрое чувство не покидало меня все время.
Людочка ходила по моей просьбе в книжно-канцелярские магазины. Книг нет (закрыто), бумагу, блокноты, карандаши купила, говорит, что 99 проц. магазинов закрыто. Кстати о торговле: торгуют на рынках. Валюта: хлеб, табак. За хлеб и табак (последний становится дороже хлеба) все, буквально все можно купить. Мародеры, спекулянты… Злость забирает, когда вспомнишь, что такие же, как N. сволочи устроились в городе, и, конечно, не голодают…
|
|
|
День первый моего пребывания в городе 18.2 промелькнул быстро. Поели уху, чайку попили, топили печечку, надымили, легли спать и всю ночь в разговорах не заснули. Передо мною развернулась картина щемиловского быта в эти страшные для Ленинграда дни: ужас перед смертью, борьба титаническая за жизнь… Это как у Гейне: «И покуда не поймешь смерть для жизни новой — хмурым странником живешь на земле суровой…» Шурик стал «старичком», «гномом», и еще тысячу эпитетов и прозвищ ему давали в семье за его угрюмый вид, за сиденье у огня и нежелание даже пройтись по комнате, за его разговоры только о еде, вплоть до того, что требовал «выделите мой хлеб отдельно», за сою и воду, которую он тайком пил и ел, и вследствие этого уже трижды опухал.
Вот и сейчас он в пальто, опухший, бледный, кожа да кости, только две черные бусинки-глазки говорят еще о прежнем розовом Шурике.
Настроение Люды: «Не читаю и еще 1–2 мес. не буду. Не могу». Тела у Марии и девочек от голода грязные, от дыма и отсутствия бани вот уже 3 мес.
В комнатах ленинградцев горшки и ведра… чтобы затем вылить в люк канализации. Это днем и ночью, уборные не работают. Судя по «Ленправде», в городе много, уже много домов пустили канализацию и отогрели водопровод и отопительную систему. Может быть, скоро это будет и на Щемиловке? Света нет, достали газолин, горит хорошо. Я ведь здесь привык к коптилке. Электро скоро не ожидают. И если чистят трамвайные рельсы, пути, то разговоры такие: «Пустят два-три паровозика с прицепом по 4–5 вагонов — возить рабочих на работу».
Действительно, очень мучительно ходить голодными или полуголодными, во всяком случае вконец отощавшему человеку из-за Невской, напр., на Петроградскую сторону.
День второй моего пребывания начался хорошо: к утру в мягкой постели, под одеялом, почти раздетый, я хорошо заснул. Утром чай с сахаром. В обед мясо с крупой и каша на второе. «Как в мирное время», — с радостью говорили мои галчата, поедая по 2–3 порции супа, по полной тарелке каши. Это отмечали день рождения Людочки и Шурика (18 февраля Люде 14 лет, Шурику 6 лет)… Людочка сходила за покупками, достала за 50 рублей пачку «Норд», я лежал и блаженствовал.
А вот сегодня обещают дать 12 грамм (двенадцать — не путать!) в честь праздника, и я эти крохи, живя без курева с 18.2., т. е. 4 долгих дня, жду как манны небесной.
Людочка пешком дошла до Садовой. Принесла почти все, что я просил. Очень устала.
День, сутки, третьи, что был я дома, прошли в попытках натопить печь, согреться. Затем у соседа около хорошей жаркой печечки погрел ноги, натер их нашатырным спиртом. Лег спать до 4-х часов. Спал вторую и третью ночи крепко и долго.
Затем начались сборы. Поцелуи. Выход в темную, мягкую (снег даже не хрустит, а мнется) ночь. Два часа ходьбы до агитпункта Финляндского вокзала, оттуда дальше.
В 8.00 шел по окраине города, полный впечатлений бодрости и мучительного уныния, свежести и грязи, героического дыхания великого города…»
Миляев С. погиб в 1944 году в боях под Витебском.
«…Не пережившим блокаду», записывает в дневнике учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец, «никогда не понять», что смерть здесь «такая же неизбежность, как на фронте». Вот ее запись от 2 марта 1942 года: «Сижу в кабинете завуча. Появляется маленькая хорошенькая девочка — дочь Бубина, которого я хоронила в октябре: «Здравствуйте, Ксения Владимировна, — а у нас в доме все умерли!» — «Кто все?» — спрашиваем; мы с завучем в один голос, глядя на хорошенькое и абсолютно не грустное личико. «Сперва бабушка, а потом мама и Володя в один; день, а меня взяла к себе тетя, а квартиру нашу, пока я была у тети, обокрали, вот я и пришла за вещами, которые были в бомбоубежище, такой красный узел».
Так вот пытается защищаться детство, детская психика: не вбирает, отталкивает…
«А по дороге Валя Петерсон эпически спокойно рассказывала о зиме, — записала Ползикова-Рубец 3 августа, — о том, как отец умер от голода, как «папа любил лес и охоту», как ей было трудно прокормить сеттера и как они его съели».
И снова: «По дороге эпически спокойно рассказывал (мальчик Колобов) про гибель матери на дежурстве от фугасной бомбы. Балка раздавила ее грудную клетку. Он с отчимом выскочил в кухню. Останься они в комнате, и их не было бы в живых. Соседка в вагоне говорит о поседевших висках 19-летнего сына на фронте: «Во и он, верно, так спокойно бы говорил о моей смерти, бы раньше такой заботливый, ласковый, а теперь совета не добьешся; спрашивала, эвакуироваться ли, а он отвечает — как хотите…»
Взрослых поражало, пугало спокойствие детей, равнодушие к смерти близких, к потерям. Что это было детская неспособность воспринять чрезмерное горе, всеобщее бедствие, что обрушилось на них? Или это защитная реакция неокрепшей психики?
Мы не знаем, как объяснить это, но мы увидели другое, не менее поразительное. Встретив этих бывших мальчиков и девочек блокады спустя тридцать пять лет, мы обнаружили, как свежо помнят они те самые события, не стараются уйти от горьких воспоминаний, подобно многим, кто были постарше. Наоборот, читают все о тех днях, знают блокаду, включаются в поиски материалов, собирают блокадных своих однокашников… Живет в них тяга к той заледенелой, голодной, лишенной детских радостей поре. А главное — то тогда не пережитое, вроде бы отстраненное горе потерь, все страдания виденные, они, оказывается, навсегда вошли в сердце, отпечатались в детской, еще податливой душе. Они продолжают жить, прочувствованные стократно. Многих они сделали сердечней, отзывчивей к страданиям других, к чужой беде…
А ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВА ГОДА…

Ушли самые долгие месяцы блокады — зима 1941 и весна 1942 года. Они-то в основном и унесли жизни ленинградцев, которые умерли в городе или какое-то время спустя, многие уже в эвакуации.
Выходил из зимы, из холода и голода Ленинград трудно, но выходил. Надо еще было спасти себя от весенней эпидемии — убрать с улиц трупы, нечистоты, все, что оставили голод и бессилие истощенных людей. Руками их же, обессиленных. Ленинградцы шли на очистку города, как на фронте шли в атаку. Надо было очистить дома, дворы, квартиры и не умереть весной, летом от неизлечимой глубокой дистрофии и не дать умереть другим. А тут — снова опасность, ожидание вражеского штурма. И злобные, ночные и дневные, обстрелы, слепые — «по площадям» и прицельные — по трамвайным остановкам, госпиталям, кинотеатрам…
«Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно, — рассказывала Ольга Берггольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал, — но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, просчитались».
Город чувствовал себя, как человек после тяжелейшей болезни: слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни.
«Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Б. Пушкарской, — пишет Вера Ивановна Павлова из Тосно. — Ни воды, ни света, почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали:
убрать рекламу
«Ребята, победа, ура, ура!» Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. Ура! Победа! Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и прошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости! Кто посильнее говорили: «Это уже победа!» — убеждали, объясняли…»
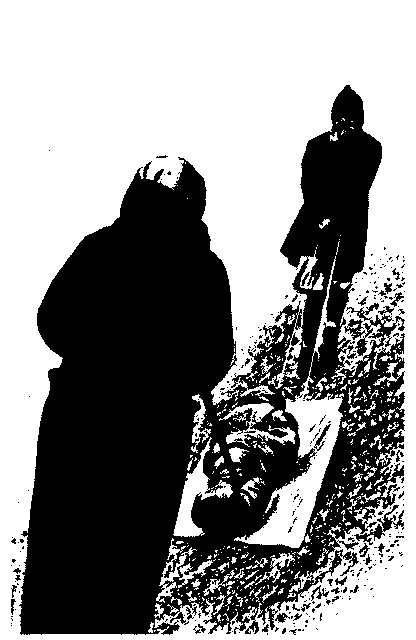
В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли.
Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике девятнадцатилетней Галины Бабинской:
«27 июня 1942 года: Город — как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде! Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас в особенности оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой.
Улицы и проспекты совершенно чистые, с шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. И так, со звонками, пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай спас жизни! А прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение — трамвай спас жизни!
На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребятишки. В садике у театр особенно нарядна публика: женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов радуги; мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках. Но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели, девчата здоровые, румяные, веселые.
В кассах кинотеатров и театров, в Музыкальной комедии — очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в промтоварные и продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку — со своим керосином!..»
Или как вспоминает С. С. Локшин пословицу тех дней: «Заходите с керосинками — выходите блондинками!»
Вот как оно воспринималось после блокадной зимы! Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого.
То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было чудом. Сегодня, издали, это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли… Что-то похожее» на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди смогут справиться — вручную, без механизмов, машин — с таким гигантским трудом.
Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города.
Как же было в городе летом 1942 года?
Город грелся.
Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было также и светом, от которого отвыкли. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешенные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат. Закопченные стены, потолки. Обломки несожженной мебели. Вывороченный на дрова паркет. «Буржуйка». Тряпье на кроватях, диванах. Грязь, грязь, нечистоты, обломки, осколки стекла, посуды — следы бомбежек… Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы! Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробиты осколками. Из всех окон торчали трубы «буржуек». Открылись от снега развалины, остовы горелых домов…
Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо.
Город оживал.
Откуда-то появились силы. Заготавливались дрова, торф для электростанции. Исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные. Стали изготавливать подошвы. Их штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек. Реставрировали одежду. Стали шить пальто, костюмы. Делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать: рабочие — 500 граммов хлеба, служащие — 400 граммов, дети и иждивенцы по 300 граммов, стали выдавать крупу, сливочное масло. И все же этого было недостаточно, питания не хватало, нужны были витамины, овощи…
«На нашем дворе появились первые листки. И вот из окна своего дома я вижу: подошел к дереву гражданин, стал срывать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель… Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе…» (Вера Яковлевна Бокина).
В парках и садах невозможно было увидеть ни одной одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней, мясистых, сочных, делали лепешки. За одуванчикам приходилось ездить все дальше — в Удельную, Озерки! По знакомству двенадцатилетнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк. Она не может забыть, что там она ранним летом 1942 года увидела живого бегемота. Как раз соседка, которая пригласила ее (она работала в бегемотнике), и спасла бегемота. Это тоже одна из правдивых ленинградских легенд, о которой, к сожалению, Марина Александровна подробностей не знает. Помнит лишь свои страхи и восторг, с каким миновала клетку, косясь на бегемота, помнит, как потом соседка вывела ее на траву к одуванчикам. И помнит еще, как проходила служительница и что-то сердитое пробурчала насчет этих одуванчиков, которые, мол, растаскивают посторонние. Она имела, наверное, в виду интересы зоосадовских зверей.
Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
