СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В МОЧЕ

Тест на содержание наркотиков в слюне
Также проводится с помощью тест-полосок, которые продаются в аптеке. Соответственно, обладает теми же достоинствами и недостатками, что и тест по моче. Время, в течение которого тест эффективен, еще более ограничено.
Наркотик выявляется по его метаболитам (подобно экспресс-тесту крови).
СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В СЛЮНЕ
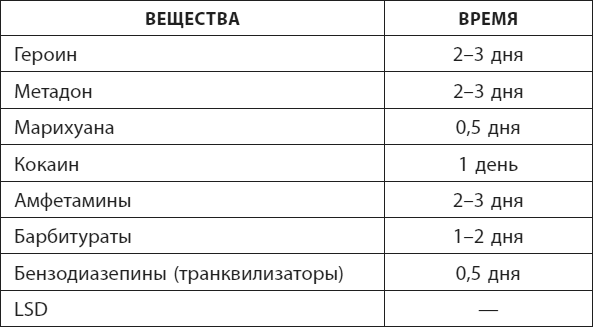
Тест на содержание наркотиков в волосах
Пожалуй, самый удобный метод. Дело в том, что волос дольше всего сохраняет остаточные следы наркотика, позволяя определить употребление в течение нескольких месяцев.
Кроме того, срезать локон незаметно достаточно просто. Единственная сложность заключается в том, что для наиболее точного результата потребуются волосы с разных участков головы. Но это все равно много проще, чем незаметный забор слюны или мочи.
СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПО ВОЛОСАМ
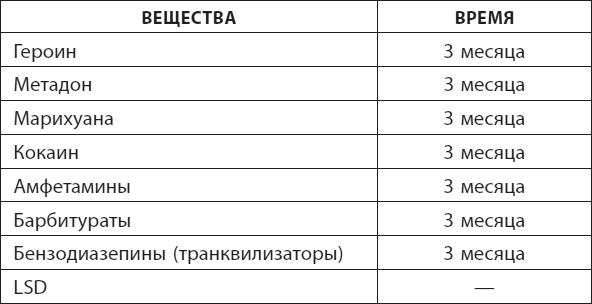
Когда тестирование не работает?
К сожалению, тестирование позволяет определить только известные, изученные виды наркотиков. Кроме того, точность не стопроцентная, и результаты могут быть ложными – как ложноположительные, так и ложноотрицательные.
В последние несколько лет стремительное развитие рынка наркотиков приводит к постоянному созданию новых составов – спайсов. Они могут частично состоять из натуральных трав и грибов с добавками искусственных составов или представлять собой полностью синтезированное вещество.
|
|
|
Так или иначе, чудовищный «ассортимент» растет с невероятной скоростью, и когда в медицине появляется тест для определения нового наркотика в крови, на «рынок» уже выбрасывается сотня совершенно новых. Даже за границей существует всего несколько тест-систем, позволяющих определить базовые компоненты спайсов, в Россию они не поставляются.
Что же делать? Можно ли доверять тестам, если и они могут ошибаться?
В любом случае, действовать лучше «от малого к большему» – от наблюдений и домашних тестов к более сложным и точным методам. «Рука об руку» с гарантированной точностью проверки идет и риск – если будете проявлять регулярную и настойчивую, но безосновательную подозрительность, то с большой вероятностью просто разрушите близкие отношения. Ваш близкий в такой ситуации, напротив, может назло начать употреблять какое-нибудь психотропное средство, действуя по бунтарскому сценарию – «раз вы считаете меня плохим, таким и буду».
Поэтому для начала стоит испробовать домашние методы тестирования, а заодно предложить человеку проверить его здоровье. Если дело не в зависимости от наркотика, близкий человек достаточно легко согласится на обследование, и вы сможете избавиться от подозрений или своевременно получить подтверждение (далеко не все люди знают, как можно определить зависимость в медицинских условиях). Если же человек начинает упираться, это дополнительный повод серьезно задуматься.
|
|
|
Если испытываете неуверенность, лучше перестраховаться и обратиться к специалисту-наркологу за консультацией – вам подскажут наиболее действенную стратегию, исходя из всех обстоятельств (особенностей характера человека, отношений в семье и т. д.). К примеру, квалифицированный психолог, специалист по зависимостям, может под видом дальнего родственника или просто знакомого прийти к вам домой и в ходе ненавязчивой беседы проверить опасения.
РЕЗЮМЕ:
1. Важный признак, который должен вызвать тревогу, – быстро меняющееся в течение дня поведение и настроение. Он должен наблюдаться не один раз, а достаточно продолжительное время – несколько недель.
2. Никогда не делайте далекоидущих выводов на основании одного-единственного признака. Все-таки зависимость затрагивает все сферы жизнедеятельности человека: биологию, психику, социальную сферу, духовную составляющую. Поэтому и проявления должны быть комплексными.
|
|
|
3. Не стоит однозначно доверять тестам на наличие наркотика в биологических средах организма – они могут ошибаться.
4. Лучший способ удостовериться, что ваш близкий не употребляет наркотики, – визит к специалисту.
Зависимость – распущенность или болезнь?
Этот вопрос задает себе каждый, столкнувшийся с фактом наркомании в своей семье или в кругу друзей. И каждый проходит серию типичных реакций: самообвинение, агрессию, отчаяние. Но, к сожалению, отсутствие понимания и базовых знаний о проблеме мешает сформулировать правильное к ней отношение и становится причиной типичных ошибок восприятия.
Одна из самых страшных ошибок – счесть наркоманию блажью. «Это такой возраст», «просто он попал в дурную компанию», «перебесится – пройдет», «он это назло делает, «у него просто нет воли и целей в жизни, он – тряпка» – каждая подобная мысль ведет к трагедии.
Для того чтобы определенно и четко отделить «блажь» от болезни, перечислим основные параметры, по которым можно определить, что человек не «просто мается дурью»:
1. «Блажь» может надоесть. Наркотик – никогда. Даже те виды препаратов, которые со временем перестают создавать приятные ощущения, зависимый продолжает принимать для того, чтобы снять чудовищные ощущения от отмены препарата.
|
|
|
2. От «блажи» можно отвлечь (новым интересным хобби, проектом, целью). От наркотика невозможно – человек теряет работу, друзей, близких, ставит под угрозу собственное здоровье и жизнь, но продолжает «употреблять».
3. «Блажь» – не разрушает тело, не разрушает социальные контакты. Наркотические препараты воздействуют как на психическую, так и на сферу телесного, вызывая вполне конкретные органические изменения (в том числе поражения мозга). Кроме этого, страдает социальная сфера – меняются люди вокруг, социальная роль, а также начинает разрушаться та часть человека, которую можно отнести к сфере духовной.
4. С «блажью» человек волевым усилием может справиться самостоятельно. Самостоятельный отказ от наркотика невозможен. Случаются периоды отказа (иногда даже на довольно продолжительный срок), но рано или поздно происходит неизбежный срыв, и все начинается сначала.
Считая употребление наркотика распущенностью, семья может молчаливо ждать или, наоборот, впадать в агрессию, спрашивать «Когда это кончится?».
Никогда. Пока вы не признаетесь сами себе, что это болезнь, подобная любой другой. Никто не будет говорить человеку с онкологическим заболеванием или даже банальным кариесом: «Перетерпим, и все пройдет». Каждый понимает, что дальше будет только хуже.
Также и с наркоманией – чем дольше человек употребляет психотропные препараты, тем более сильным изменениям подвергается его организм, психи– ка, он сам как личность, его жизненный уклад и окружение.
Действительно, первое время после начала употребления никаких видимых изменений не происходит. Болезнь наркомания наступает незаметно, когда сам зависимый еще думает, что все под контролем, а его близкие либо ничего не подозревают, либо верят, что это всего лишь временное явление, которое можно контролировать, либо думают, что это «блажь, перебесится», либо верят в свой авторитет и возможность «раз и навсегда запретить» употреблять наркотики.
Все это – типичные ошибки, которые оттягивают начало лечения и никогда не дадут ожидаемый результат.
На самом деле мысль «я в любой момент могу бросить, просто не хочу» – это ловушка, в которую попадает практически каждый зависимый; самоуспокоение, самообман, который позволяет продолжать принимать психотропные препараты и чувствовать себя в безопасности. И этот же посыл – явный показатель, что человек уже «попался на крючок», уже стал наркоманом и начался непрерывный процесс погружения в болезнь. Поэтому не нужно обманываться заверениями зависимого, который уже не контролирует себя. Им управляет наркотик, подчиняя себе не только тело, но и мысли.
РЕЗЮМЕ:
1. Наркомания – это болезнь! И никак иначе.
2. Если это болезнь, ее нужно правильно лечить.
3. Любая болезнь – это процесс, а не состояние. Наркомания непрерывно ухудшает физическое, психическое состояние человека, меняет его личность, разрушает социальные связи. Чем раньше начато лечение, тем меньше разрушений, тем вероятнее выздоровление.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Историй о родителях, которые считают зависимость блажью, великое множество. Часто это подается под соусом: «Он не наркоман! Он просто употребляет наркотики. Иногда. Это просто Петя (Вася, Лена и т. п.) на него дурно влияют!»
Вот типичный случай. Не раз нам приходилось сталкиваться с такими родителями, и часто подобные истории ничем хорошим не заканчиваются.
Итак, первичная консультация. На приеме уже немолодые мама и папа. Их двадцатилетний сын Кирилл употребляет наркотики, но не видит в этом проблемы. Мать и отец озабочены поведением сына, но считают, что это не настолько серьезно, насколько пытается представить доктор. Они думают, будто достаточно того, чтобы психолог просто поговорил с Кириллом, как-то «зацепил» его и уговорил отказаться от употребления.
Врач приглашает психолога, родителям объясняют, что наркомания это болезнь, рассказывают о причинах ее возникновения, о последствиях, почему нужна реабилитация.
Но у родителей есть свое представление, почему сын употребляет наркотики и как нужно это «лечить». Они ищут «специалиста», который разделит их взгляд на проблему и будет лечить молодого человека так, как ему скажут. И самое страшное – находят. В любой профессии достаточно недобросовестных людей. Естественно, только «говорящие по душам» психологи их сыну не помогут.
О том, что родители Кирилла нашли такого «специалиста», мы узнали много позже, спустя три года, в течение которых мама и папа прошли вместе с сыном все круги ада наркомании: воровство из дома, ложь, проблемы с законом, бессонные ночи, скандалы, барыги, больницы…
Именно тогда, когда они осознали свое бессилие, в памяти всплыл разговор на первичном совместном приеме у врача и психолога, разговор о реабилитации, о том, что их позиция – неконструктивная.
Признание собственного бессилия перед зависимостью близкого – очень важный и ресурсный момент для созависимого родственника. Он позволяет остановиться, осмотреться и принять реальную помощь, а не полагаться на собственные силы. Наркомания не та болезнь, в лечении которой своих сил может оказаться достаточно.
С Кириллом, в конце концов, все закончилось благополучно. Он прошел реабилитационный курс, а родители – цикл групповых занятий для родственников. Но сколько же времени потребовалось, сколько сил и ресурсов было потрачено из-за простой, казалось бы, человеческой слабости – самонадеянности.
Как наркомания меняет человека
Наркотики поражают решительно все сферы, сопряженные с существованием человека. Зачастую внимание обращается только на прямые физические последствия – преждевременное старение, проблемы с иммунитетом, нарушение работы сердечно-сосудистой или дыхательной систем. Как-то упускается из внимания то, что страдают все сферы жизни – помимо физической, еще и психическая, социальная и даже духовная.
Не учитывая этого, близкие совершают множество ошибок.
Во-первых, родные наркомана думают, что имеют дело с той же личностью, с которой долгое время жили рядом, пытаются апеллировать к прежним ценностям, оценивать поступки так, как раньше. Но всякий раз они «промахиваются». Это неудивительно – ведь перед ними уже совершенно другой человек, о котором они мало что знают. Поэтому ожидания близких в этом случае можно сравнить с попытками прогнозировать поведение совершенно незнакомого человека.
Во-вторых, сами зависимые, находясь на стадии лечения, ошибочно полагают, что наркотики наносят вред только организму. К сожалению, нередки ситуации, когда человек ложится в клинику не для того, чтобы навсегда бросить наркотики, но исключительно чтобы снизить потребляемую дозу, поправить физическое здоровье и даже (как бы чудовищно это ни звучало) чтобы после восстановления получить больше ощущений от приема привычной дозы.
Так или иначе, важно понимать, что наркомания влияет на все 4 «системы», составляющие основу человеческой жизни: физиологическую, психологическую, социальную и духовную.
Понимание этих изменений позволит родственникам более эффективно взаимодействовать с зависимым и подготовить себя ко многим перипетиям, неизбежно возникающим в процессе лечения и реабилитации.
Физические изменения
В конечном итоге, при длительном употреблении психоактивных веществ затрагиваются решительно все органы и системы организма: начиная от кожных покровов и заканчивая жизненно важными органами, такими как сердце, печень, легкие и т. д.
Если взять несколько фотоснимков человека – от начала приема наркотиков до глубокого погружения в болезнь, – то можно увидеть, что буквально за несколько лет употребления человек меняется до неузнаваемости. Молодые юноши и девушки превращаются в настоящих стариков и старух, поражается кожа, лицо «обрастает» морщинами, тело как будто иссыхает. Все эти изменения вызываются внутренними процессами, не видимыми глазу, и свидетельствуют о тяжелых нарушениях в работе всего организма.
Опиоидные (опиатные) рецепторы, расположенные в головном, спинном мозге и некоторых органах, – это чувствительные нервные окончания, которые могут возбуждаться веществами опиоидного типа. Когда рецепторы связываются с этими веществами, человек перестает ощущать боль. Отдельные типы таких рецепторов при активации могут вызывать угнетение дыхания, общее успокоение, могут угнетать психику, вызывать острые психические расстройства.
Концентрация эндогенных (то есть вырабатываемых в самом организме) опиоидов в норме не велика. Эти вещества, называемые эндорфинами, энкефалинами, динорфинами, эндоморфинами, выбрасываются в кровь в моменты стресса, чтобы уменьшить возможную боль, «зарядить человека эмоциональной энергией». Действуют как раз на опиоидные рецепторы.
Наркотики конкурируют с эндорфинами за эти рецепторы, что и приводит к формированию физической зависимости.
Механизм привыкания и абстиненции
В первую очередь, поражается центральная нервная система и мозговые структуры. Большая часть психоактивных препаратов работает непосредственно в этих областях, действуя как внутренние «гормоны радости» – так иногда называют вещества эндорфины, которые вырабатываются в организме. Взаимодействуя с теми же рецепторами, что и эндорфины, наркотики опийной группы, например героин, замещают их во внутреннем обмене веществ. Организм «понимает», что собственные «гормоны радости» уже не нужны, раз есть внешние, которые к тому же поступают регулярно, да еще и в достаточном количестве, и «дает команду» снизить выработку эндорфинов до минимума.
Но нужно понимать, что эндорфины вырабатываются не только для того, чтобы получать удовольствие в моменты счастья, но и чтобы блокировать, например, болевые ощущения умеренной интенсивности, которые возникают в ответ на легкие травмы или усталость мышц.
Это и является причиной болевых ощущений в период абстиненции, то есть ломки у опийных наркоманов, возникающей в момент отказа от наркотиков. Привычное подавление боли большими дозами опиатов приводит к тому, что обычные импульсы, например напряженные мышцы или нагруженные суставы, начинают восприниматься как непереносимая боль в момент отсутствия опиатов в крови. Ведь собственные эндорфины вырабатываться в нужном количестве перестали за ненадобностью.
Со временем спектр привычных ощущений из-за этого смещения «внутренней химии» кардинально меняется: то, что раньше во время приема наркотика воспринималось как эйфория, теперь начинает ощущаться организмом как норма. И, соответственно, возврат к нормальному восприятию уже трактуется мозгом как болезненное состояние.
Именно поэтому, даже когда наркотик перестает доставлять какие-либо «приятные ощущения» (а это неизбежно происходит, потому что у центральной нервной системы вырабатывается устойчивость к постоянному раздражению), человек все равно продолжает употреблять психоактивные вещества, просто для того чтобы избавиться от боли – вернуть организм к новой «норме».
Можно сказать, что, по сути своей, человеческий организм – это, во-первых, система достаточно ленивая, а во-вторых, быстро приспосабливающаяся к любым условиям. Первое обусловлено стремлением к сбережению ресурсов, которые могут понадобиться для выживания. Второе – прямой необходимостью к выживанию. Только тот, кто может быстро приспособиться в условиях тяжелых изменений, сможет выжить и продолжить свой род. Оба механизма заложены в нас от природы и передаются из поколения в поколение на протяжении десятков тысячелетий.
В результате постоянное употребление наркотиков приводит к тому, что естественные эндорфины перестают вырабатываться в нужном количестве – организм не видит необходимости в приложении дополнительных усилий при стимуляции извне.
С другой стороны, происходит быстрое привыкание к новой «системе функционирования». Так формируется сторона физического привыкания, неизбежно сопровождаемая грубыми нарушениями в работе центральной нервной системы и мозговых структур.
Как следствие, снижается или изменяется тактильная восприимчивость, снижаются интеллектуальные способности, нарушаются умственные процессы, координация – то есть решительно все процессы, которые регулируются центральной нервной системой.
Человек жалуется на боли, не может адекватно управлять телом, не может логически мыслить, «тормозит», проявляются нарушения речи (от запинаний до перестановки букв в словах или даже полностью непонятной речи, хотя человек может быть полностью уверенным, что говорит, как и всегда).
Преждевременное старение
Вещества, содержащиеся в наркотиках, действуют по-разному, но, так или иначе, влияют на жизнеспособность клеток. Нарушаются естественные процессы регенерации, усвоения полезных веществ. Следствием становится преждевременное старение, ломкость волос, ногтей, разрушение зубов, образование кожных поражений (зачастую сопровождающихся зудом, поэтому человек начинает расчесывать эти места, что на фоне сниженного иммунитета приводит к возникновению незаживающих кожных поражений из-за присоединения инфекции).
Сердечно-сосудистая система
Традиционно считается, что «удар по сердцу» наносят только стимуляторы, у которых сам эффект от приема подразумевает ускорение сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений. Однако, так или иначе, сердечно-сосудистая система страдает при приеме любых психоактивных веществ.
Напрямую связанное с функционированием центральной нервной системы, сердце испытывает колоссальные перегрузки при приеме наркотиков. К этому добавляется нарушение обмена веществ в тканях, прямое токсическое воздействие на сердечную мышцу.
Часто у наркоманов можно встретить такое заболевание, как инфекционный эндокардит. Дело в том, что инфекционные агенты – бактерии, попадающие в кровь во время частых инъекций, «оседают» на внутренней стенке сердца и вызывают там локальный воспалительный процесс. Это очень серьезное заболевание с высоким риском неблагоприятного исхода.
Дыхательная система
Аналогичные процессы затрагивают дыхательную систему. Опиаты, например, прямо угнетают дыхание и кашлевой рефлекс, что может приводить к развитию тяжелых бронхитов и пневмоний, особенно на фоне сниженного иммунитета или наличествующего хронического инфекционного заболевания – вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции. Последнее встречается очень часто.
Стимуляторы, например кокаин, вдыхаемые через нос, постоянно иссушают слизистую оболочку, выстилающую носовую полость. Возникает хронический насморк, частые кровотечения, и все это с трудом поддается лечению.
Пищеварительная система
Пищеварительная система страдает как от непосредственного воздействия наркотических препаратов, так и в ходе сопутствующих поведенческих изменений.
В частности, при наркотической эйфории подавляется естественное чувство голода – это одна из причин, по которой зависимые люди начинают быстро терять вес. Нерегулярное, редкое, неразборчивое питание (как правило, какие-нибудь высококалорийные жирные перекусы, нередко «разбавляемые» алкоголем) приводит к развитию самых различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Мочеполовая система
Почки в организме человека отвечают, помимо всего прочего, за выведение различных токсинов. Почечная недостаточность может развиться как одно из осложнений употребления наркотиков.
Распространенной патологией являются и разнообразные половые дисфункции – от нарушений полового влечения до проблем с эрекцией, связанных с нарушением локального кровообращения. Немаловажную роль играет и постепенное снижение самой потребности в сексе – ее полностью вытесняют наркотическая эйфория и дальнейшая потребность в употреблении. Кроме того, расстройства в работе нервной системы приводят к тому, что человек просто не реагирует на факторы, которые в норме могут являться возбуждающими.
Иммунная система
Корректная работа иммунной системы основана на четком «понимании» организма, что представляет для него угрозу. В ходе воздействия психоактивных веществ, в первую очередь, нарушается именно это «понимание» – организм оказывается дезориентирован. От воздействия наркотиков страдают все звенья иммунной системы, отвечающие за борьбу с инфекционными и вирусными агентами. Человек становится беззащитным перед лицом даже самых банальных простудных заболеваний, которые в нормальном состоянии проходят за несколько дней безо всякого лечения.
Кроме того, сами методы употребления наркотиков создают значительную угрозу для проникновения инфекций в организм: не одноразовые шприцы (нередки случаи введения наркотика «по кругу» несколькими людьми из одного и того же шприца); вдыхание, приводящее к изъязвлению слизистой (а открытые нарушения слизистой и кожных покровов – это самый быстрый путь проникновения инфекций).
Самыми распространенными у наркозависимых являются гепатиты В и С (они как раз передаются только через кровь) и ВИЧ-инфекция (ВИЧ – вирус иммунодефицита человека), печально известная как «СПИД».
Люди, которые принимают инъекционные наркотики кустарного производства, практически поголовно страдают гнойными осложнениями: абсцессами (гнойниками) в местах инъекций. Производятся такие вещества на обычной кухне наркопритона без соблюдения элементарных норм бытовой чистоты, где, конечно, ни о какой стерильности речь не идет. У потребителей таких наркотиков часто возникают флегмоны (пропитывание гноем обширных участков тканей), гангрены (омертвение) различных органов, сепсис (в народе – «заражение крови»). От этих осложнений наркозависимые в основном и умирают через год-два после начала употребления.
Психические изменения
Формирование психологической зависимости
Далеко не все наркотики формируют физическое привыкание, сопровождающееся ломкой, – то есть физическую потребность продолжать употреблять психоактивные вещества, чтобы избавиться от болезненных последствий абстинентного синдрома (комплекса симптомов, возникающих в начальный период отмены наркотика).
Но решительно все формируют зависимость психологическую – более страшную.
Сигналы о снижении количества наркотика в организме начинают восприниматься мозгом как равноценные сигналам о голоде и жажде: то есть входят в ряд вещей, необходимых для выживания. На этом основывается ложная убежденность человека, что он может бросить в любой момент, если не испытывает выраженных болевых ощущений в промежутках между употреблением. Точно так же можно заявить «я хочу – ем, хочу – не ем», но рано или поздно естественный психологический механизм «поведет» к холодильнику.
Неадекватность реакций
Постоянное воздействие на нервную систему и мозг формирует ложные, неадекватные реакции на самые обычные вещи: начиная от агрессии или, напротив, неестественно спокойного отношения к ярким событиям, до поведения, полностью продиктованного устойчивыми галлюцинациями (человек слышит голоса, которых нет, видит вещи, которых не существует, реагирует на них, как будто это реальность).
Часто острые психотические реакции в виде бреда и галлюцинаций возникают у спайсовых наркоманов. Такой человек может несколько месяцев курить спайс и не вызывать никаких подозрений даже у близких родственников, пока, наконец, в один прекрасный момент после очередной порции «смеси» не начнет все крушить вокруг себя, подчиняясь голосам, живущим в его голове.
Ключевая сложность – самому человеку объяснить его неадекватность уже невозможно, именно потому, что он считает свое поведение абсолютно нормальным и оправданным. Как раз наоборот, реакции других людей могут казаться ему неадекватными и странными.
В конечном итоге, изменения приводят к тому, что зависимый становится опасен как для себя, так и для окружающих – вплоть до того, что может начать бросаться с ножом на людей в ответ на невинное замечание или даже «неправильно заваренный кофе». Такая вспыльчивость и взрывная раздражительность часто встречается именно у спайсовых наркоманов. Хотя и люди, злоупотребляющие стимуляторами, или опийные наркоманы в период абстиненции к этому также склонны.
Многие наркотики настолько резко могут изменить поведение человека, что, находясь за рулем, вместо того чтобы нажать на тормоз, видя приближающееся препятствие, он, наоборот, нажмет на газ. И будет считать это правильным.
Снижение памяти и интеллектуальных способностей
Возникают проблемы с памятью – иногда зависимый не может вспомнить даже то, что происходило несколько минут назад. Новая информация не усваивается, даже если ее повторить несколько раз. Какие-то совершенно очевидные логические взаимосвязи превращаются в загадку. Иногда эти изменения заходят настолько далеко, что становятся прямой угрозой для существования – например, человек не видит взаимосвязи между голодом и необходимостью поесть, холодом и необходимостью одеться, температурным воздействием и необходимостью отстраниться, чтобы не получить ожог.
Наиболее очевидны изменения у людей, которые до развития зависимости отличались высокими интеллектуальными способностями. Они утрачивают интерес к прежним занятиям, становятся рассеянными, теряют возможность использовать ранее полученные знания.
Мы очень часто встречаем в своей практике случаи, когда наркозависимый настолько личностно изменен, что в этой клинической картине теряется психическое расстройство, требующее отдельного лечения. Его просто не замечают родственники, близкие, приписывая «чудачества» действию принимаемого наркотика. Специалисты давно обратили внимание на то, что эти люди с так называемым двойным диагнозом (наркомания плюс психическое заболевание) наиболее сложны для подбора правильного лечения и проведения последующей успешной реабилитации. К таким людям нужен особый подход.
Развитие психических заболеваний
И для человека, изначально здорового, эту опасность нельзя исключить полностью. Не все психические заболевания, такие, например, как шизофрения, развиваются вследствие генетической предрасположенности – многие расстройства являются «приобретенными», возникающими из-за органических повреждений мозга.
Относительно легкие психические нарушения возникают на ранних стадиях приема наркотиков. Это могут быть личностные, так называемые психопатические, изменения. Человек по характеру становится другим: реагирует иначе, более бурно или, наоборот, более индифферентно. Часто могут возникать депрессии, иногда настолько тяжелые, что возможен исход в виде суицида (самоубийства). В случае употребления спайсов не редки галлюцинации и бред, похожие на проявления шизофрении. Их же вызывают и наркотики-галлюциногены.
Поэтому лечение и реабилитация зависимых обязательно должны сопровождаться помощью квалифицированных психиатров, которые определяют наличие психических расстройств и при необходимости проводят соответствующее лечение.
! Если употребление наркотиков привело к развитию физических и психических патологических процессов, простой отказ от психоактивных веществ не поможет организму восстановиться. В любом случае человеку нужна помощь врачей. Иначе говорить о полном восстановлении бессмысленно – даже при отсутствии дальнейшей тяги к наркотикам вы получите «на выходе» больного человека, неспособного к полноценной жизни.
Социальные изменения
Необходимость постоянного присутствия наркотика в организме в корне меняет социальную жизнь человека. Все взаимодействия с окружением отныне пропускаются через призму зависимости.
Работа
Если раньше она была способом реализовать амбиции, источником дохода для осуществления планов и желаний, то теперь становится только способом достать деньги на новую дозу. Но поскольку человек постепенно теряет интеллектуальные способности и способность к концентрации, а сами психоактивные вещества стоят достаточно дорого, работа постепенно полностью теряет значимость.
Либо наркоман бросает ее и начинает искать быстрые источники дохода (зачастую нелегальные), либо его увольняют, потому что он просто не выполняет свои обязанности. При этом социальные границы размываются настолько, что человека совершенно перестают интересовать сами способы получения денег – главное, чтобы хватило на дозу. Нужно для этого украсть или ограбить кого-то, для зависимого вскоре становится не так важно. Нередко именно эти люди становятся активными наркодилерами, поскольку деятельность позволяет и заработать, и получить доступ непосредственно к веществам.
Образование и интересы
Эти две сферы постепенно отключаются полностью, поскольку никак не взаимосвязаны с тем, что становится главным «увлечением» в жизни зависимого. Человек бросает учиться, перестает заниматься всем, что раньше казалось интересным. В редких случаях, если какие-то увлечения присущи той социальной группе, в которой он употребляет препараты, они могут остаться. Например, увлеченность определенным жанром музыки, исполнителем.
Социальное взаимодействие
Круг общения постепенно ограничивается теми людьми, у которых можно достать дозу, или теми, с кем человек употребляет наркотики. Иные варианты коммуникаций утрачивают значимость – в том числе семейные или старые дружеские связи. В конечном итоге, зависимый становится равнодушен даже к самым близким. Именно поэтому при попытке заставить его отказаться от наркотиков ошибочно апеллировать к семейным чувствам, любви, обязательствам. Всего этого уже не существует в системе ценностей наркомана.
Нет, конечно, он может в моменты кратковременного «просветления» испытывать чувство вины, однако пройдет немного времени, и человек об этом просто забудет: под воздействием принятой дозы или в поисках очередной партии вещества.
Утрачиваются понятия общепринятых приличий (к примеру, в одежде), нормы поведения в рабочем, дружеском коллективе, на улице, с незнакомыми людьми и т. д. На первый план выходит поведение, сформированное патологическим влечением, подчиненное единственной цели – найти и употребить наркотик.
Духовные изменения
Одновременно с социальными изменениями происходит и деградация духовных устоев. Нравственность и способность к нормальным человеческим чувствам подменяются потребностью в наркотике. Частично это объясняется воздействием на всю центральную нервную систему и, особенно, головной мозг, частично – кругом общения, в который попадает зависимый, и смещением ценностных ориентиров. Помимо того что он сам начинает думать только о новой дозе и утрачивает способность к адекватной оценке собственной жизни, еще и попадает под влияние других зависимых, которые начинают оправдывать любое поведение, в том числе полную нравственную деградацию.
«Украл? Ну, человек сам дурак – лучше надо следить за своим добром, а не лохом быть».
«Ударил жену? А что она полезла со своими нотациями?»
Это самые простые примеры, но они показывают, насколько сильна духовная деградация в среде зависимых. Оправдываются любые модели поведения, ведущие к принятию дозы, закономерной считается любая реакция на попытку удержать человека от наркотиков.
Сострадание, чувство долга, любовь, ответственность, честность – все доброе, чистое, сильное, что есть в человеческой душе, вытесняется противоестественной «жаждой». Даже в те моменты, когда кажется, что человек адекватен, это может быть всего лишь филигранная актерская манипуляция.
Важно понимать одну вещь, которая позволит не впасть в крайности.
С того момента, как близкий человек начал употреблять психоактивные вещества, самого человека (его личности) становится все меньше и меньше. С вами общается не брат/сестра, сын/дочь или муж/жена – а, если можно так сказать, сам наркотик. Это он диктует слова и поступки.
Близкий вам человек оказывается как будто запертым в другую личность, и ваша задача – помочь ему избавиться от «монстра», который завладел его телом, разумом и душой. Как это сделать? При чем тут семья? Как вы можете повлиять на процесс лечения, уже после подключения к нему квалифицированных специалистов? И почему говорят о том, что при наличии пристрастия к наркотикам одного члена семьи созависимость охватывает всех близких?
Наркоманам свойственна лживость. За исключением, пожалуй, случаев, когда удается сразу же заметить зависимость близкого человека – буквально после приема первой-второй дозы – и направить на лечение. Один из наших пациентов так характеризовал эту черту зависимых: «Когда наркоман говорит "здравствуйте", он уже врет».
Склонность ко лжи напрямую связана с постоянно оттачиваемым умением манипулировать окружающими. Изначально зависимый врет из нежелания, чтобы близкие вмешивались в его дела, или из страха, что узнают о его «увлечении». Затем добавляется необходимость лгать, чтобы достать деньги, продолжить употребление, избежать лечения.
Оттачивается навык манипуляции – причем построенной именно на лжи. Зависимый учится филигранно распознавать, на кого из близких можно воздействовать клятвенными заверениями «уже завтра пойти лечиться», кому можно «надавить» на жалость или чувство вины.
Та боль, которую человек причиняет близким, его не волнует. От переживаний уберегает сформированный уже крайний эгоцентризм.
РЕЗЮМЕ:
1. Страдают основные сферы жизни человека: физическая, психическая, социальная, духовная. Болезнь деформирует их, подстраивая под главенствующую цель – регулярное потребление психоактивного вещества.
2. Прием наркотиков приводит к тому, что организм в буквальном смысле начинает «рассыпаться» – возможно развитие любой патологии, постепенно угнетаются функции практически всех систем, и без квалифицированной медицинской помощи человек может погибнуть буквально за пару лет.
3. Психические нарушения часто маскируются действием наркотика. Поэтому наркомана всегда должен на начальном этапе лечения наблюдать психиатр.
4. Личность меняется настолько, что от былого человека не остается практически ничего. С вами общается и взаимодействует не тот, кого вы знали раньше, а его любимый наркотик.
Созависимость
Важно понимать, что зависимость – это не трагедия одной личности. Наркомания поражает всю семью – всех близких, кто находится рядом (родителей, братьев, сестер, детей, супругов). Так или иначе, весь жизненный уклад оказывается подчинен наркотикам.
Члены семьи начинают жить не своей жизнью, а жизнью зависимого родственника, переживая вместе с ним все этапы трагедии, подчас забывая о собственных нуждах и проблемах. Сознание и восприятие постепенно меняются, формируется и усугубляется контрпродуктивное поведение, и эта чудовищная воронка затягивает, превращая в жертв наркомании не только непосредственно зависимого, но и всех его близких.
Разберем наиболее распространенные последствия, которые возникают в семье зависимого, рассмотрим, как обычно в этих ситуациях ведут себя созависимые родственники, попытаемся разобраться, как нужно было бы реагировать, чтобы не включаться в порочный круг созависимости.
Финансовые последствия
Пожалуй, наиболее очевидные, особенно, если до этого зависимый человек был основным «работником» в семье. Теперь же зарплата уходит на наркотические препараты, да и сам потребитель находится под угрозой увольнения.
Затем из дома начинают пропадать ценные вещи. В отсутствие денег наркозависимые в первую очередь прибегают к этому, наиболее безопасному способу заполучить необходимую сумму. Не важно, сколько времени семья копила на ту или иную ценность, был ли это значимый подарок от близких людей или наследство, оставленное родственниками (например, фамильные драгоценности). Бесполезно уповать на какой-либо нравственный стопор.
Многие семьи сталкиваются с тем, что зависимый как-то неожиданно для всех окружающих успел набрать кредитов. И хорошо, если заем был оформлен официально, в банке. Зачастую, получив отказ в банковской организации, люди идут к так называемым «частным кредиторам». Нужно ли говорить о грабительских процентах, криминализированной структуре всей этой системы и высоком риске не только для имущества, но даже для здоровья и жизней всех членов семьи?
Нередко сами наркодилеры предлагают клиентам «хороших людей», которые готовы одолжить денег на дозу. Достаточно оставить в залог какое-нибудь имущество просто под расписку – как правило, квартиру, машину или дом (то есть нечто ценное, что есть в собственности). Конечно же, сам наркодилер находится «в доле» и рассчитывает, что зависимый не успеет вовремя погасить долг, а дальше: «Вот расписка, и знать ничего не знаю».
Хуже всего то, что сам процесс заема может происходить, когда человек находится в состоянии эйфории от наркотика и, ничего не соображая, способен поставить подпись под любыми обязательствами.
Созависимое поведение
Пытаться оправдывать человека перед начальством и коллегами. Допустим, звонить на работу и говорить, что он заболел, когда зависимый в очередной раз находится под воздействием наркотика. Оплачивать его счета и кредиты.
Родственникам кажется, что они помогают, спасают как своего близкого, так и всю семью. Но на самом деле у зависимого просто формируется ощущение безопасности – инстинкт самосохранения окончательно исчезает, зато появляется уверенность в своей вседозволенности.
Что бы он ни сделал, его всегда спасут – так зачем ограничиваться? Зачем думать над тем, что ты делаешь? Можно до бесконечности занимать деньги – родственники оплатят.
В подобных условиях наркомана в разы сложнее уговорить на лечение, ведь человек не видит никаких проблем и рисков, он уверен, что ему ничего не угрожает.
Конструктивное поведение
Если у вас есть такая возможность, как только стало известно о зависимости близкого человека, постарайтесь оформить все значимое имущество как минимум в совместное пользование. Поставьте человека перед фактом, что со своими долгами и проблемами на работе придется разбираться самостоятельно. Это вряд ли заставит отказаться от наркотиков (хотя и такой вариант нельзя исключать), но поможет уговорить обратиться к врачу, как только ситуация начнет выходить из-под его контроля.
Любой факт воровства должен жестко пресекаться – никакого попустительства. Уже после первого инцидента нужно поставить жесткие рамки: пригрозить разрывом отношений, лишением финансового обеспечения, обращением в полицию. Определите меру, которая будет значимой, но, с другой стороны, к которой действительно можете прибегнуть. Если человек один раз поймет, что вы не выполняете угрозы, дальше любые увещевания будут бесполезны.
Психологические последствия
Наркотики меняют не только психологию самого зависимого, но и его близких, оказывая таким образом влияние на всех. Страх, безысходность, стыд – то, с чем сталкивается каждая семья, если кто-то из близких становится наркоманом. Это неизбежно. В первую очередь, начинается самообвинение – кажется, можно было предотвратить случившуюся трагедию. Затем возникает как страх за здоровье и жизнь близкого человека, так и опасение, что кто-то узнает о происходящем.
• Страх.
Страшно поставить жесткие условия – кажется, человек в любой момент может хлопнуть дверью и уйти. А что там с ним будет дальше? Вдруг что-то случится? Передозировка, драка – фантазия родственников поистине безгранична в создании фантомных опасностей. И это естественно. Людям свойственно беспокоиться о тех, кого они любят.
Но именно в данной ситуации беспокойство принимает нерациональные формы и становится препятствием на пути решения проблемы. Нужно четко понимать, что попустительство ради сохранения некоего мифического status quo ни к чему не приведет. Напротив, чем дольше человек употребляет наркотики, тем выше шанс, что все опасения станут реальностью и без семейных ссор. В любом случае, у многих препаратов очень маленькая разница между безопасной и смертельной дозой. В любом случае, зависимый человек вращается в кругах, так или иначе относящихся к криминалитету.
Только жесткая, твердая линия поведения (естественно, без лишней агрессии и неоправданной жестокости) может помочь. Да, зависимый может оскорбиться и уйти. Да, после этого может случиться катастрофа. Но главное в этом всем слово «МОЖЕТ».
Если вы поддадитесь страху и пойдете на поводу у зависимости, катастрофа рано или поздно случится, уже безо всякого «может».
• Стыд.
Как ни крути, человек – «животное социальное». Поэтому многим из нас важно, чтобы «кто-нибудь что-нибудь не подумал». И родственникам зачастую становится просто стыдно. Поэтому они готовы врать начальству и коллегам зависимого (чтобы никто не узнал на работе), избегать жестких разговоров дома («не дай бог, соседи услышат»), изводить самих себя постоянными опасениями, что кто-то что-то заметит.
Созависимое поведение
Направлять силы на то, чтобы никто ничего не узнал, на сохранение видимого благополучия в семье. Подобное поведение приведет не к улучшению, а к усугублению ситуации.
Также не стоит впадать в другую крайность и специально делиться с друзьями и соседями. Единственный адекватный совет в данной ситуации – обратиться к специалистам. Иных вариантов не существует.
Конструктивное поведение
Прежде всего, признайтесь самим себе: да, это произошло. Но это не конец света. Чем дольше закрываете глаза на происходящее, тем больше времени потеряете. Да, если соседи или друзья узнают о ситуации – не слишком приятно. Но сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы не на этих вопросах.
Определите для себя четкую позицию – никого не касается, что происходит в семье. Никто не имеет права обсуждать или осуждать вас. Это, конечно, не значит, что нужно делиться горем со всеми, но и выдумывать оправдания и объяснения тоже не стоит. Сберегите моральные силы для лечения и реабилитации близкого – поверьте, они вам понадобятся.
Не поддавайтесь страхам и провокациям со стороны зависимого – следуйте выбранной линии поведения. Это единственная стратегия, которая обеспечит хоть какие-то шансы на «победу».
Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу, специализирующемуся на работе с наркозависимыми. Так вы сможете получить действительно ценный совет и поддержку от человека, который прекрасно знает и понимает, что происходит с вами и вашей жизнью.
Цепная реакция
Редкая, но действительно страшная ситуация, когда, пытаясь сблизиться с человеком, отдаляющимся из-за своей зависимости, родные пытаются сами войти в этот порочный социум. Молодым супругам кажется, что таким образом они смогут лучше понять свою вторую половину. Родителям – что таким образом они вроде бы держат ситуацию под каким-то контролем. Они начинают общаться с новыми «приятелями» сына или дочери, чтобы хотя бы знать, куда уходит их ребенок, наладить с этими людьми какой-то контакт.
Созависимое поведение
Любая попытка соприкоснуться с миром наркотиков. Это не принесет ровным счетом никакой пользы, наоборот, создаст дополнительную угрозу.
Конструктивное поведение
Поймите, что вы не Харон – мифологический персонаж, способный на своей ладье перемещаться между миром живых и миром мертвых. Как только шагнете в круг зависимых людей, вскоре вас самих придется спасать.
Даже если зависимый предлагает познакомить вас со своими новыми друзьям («да, они нормальные люди – вот познакомитесь и сами увидите»), нужно твердо дать понять, что вы не имеете ни малейшего желания соприкасаться с этим кругом лиц.
Иллюзии и самообман
Человек так устроен, что в ситуации тяжелого стресса восприятие информации искажается или вовсе блокируется, если сознание не может справиться с нанесенным ударом.
Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то из близких начал употреблять наркотики, включается система самообмана. «Ну, он только один раз попробовал», «это же просто травка/курительные смеси», «раз обещал бросить, то бросит». Родственники пытаются сгладить ситуацию, находя оправдания, видя несуществующие улучшения. Через некоторое время мысли, которые до этого казались абсурдными, воспринимаются как адекватные. Например, «вот он опять на работу устроился», «вот он уже только раз в неделю употребляет».
На самом деле, шаг к улучшению может быть только один – безоговорочный отказ от наркотика. Все остальное – мираж. У наркоманов, как и у алкоголиков, бывают свои «плохие» и «хорошие» дни. Человек не моментально превращается в недееспособный «овощ». Он может и работать (для того чтобы зарабатывать на дозу или поначалу просто для того, чтобы его оставили в покое), может на какое-то время снизить частоту потребления. Но в любом случае, пока принимает психоактивные вещества, процесс физического и психического распада продолжается – разница лишь в том, с какой интенсивностью.
В нашей практике встречались ситуации, когда родители сами начинали покупать наркотики детям только, чтобы ощутить контроль над ситуацией. Мол, таким образом снизится риск передозировки, сын или дочь всегда под присмотром и т. д. Это все иллюзия и путь не спасения, а настоящего, постепенного убийства.
Созависимое поведение
Позволять себе обманываться и заниматься самоуспокоением, пытаться убедить себя, что ситуация под контролем, и вы сможете с ней справиться. Верить в то, что человек самостоятельно избавится от зависимости.
Конструктивное поведение
Безоговорочно принять правду. Ваш близкий человек – наркоман. И это болезнь, смертельно опасная не только для самого зависимого, но и для его окружения. Она требует незамедлительного лечения. Только после этого сможете вести себя разумно и действовать рационально.
Не верить многочисленным обещаниям бросить, исправиться «вот уже завтра, через неделю, через месяц». Специфика зависимости такова, что человек пообещает, что угодно, лишь бы его оставили в покое. Более того, нередко наркоманы сами себе обещают потерпеть недельку, месяц, снизить дозу, перейти на более легкие наркотики – чаще всего не удается даже это. Что уж говорить об обещаниях, данных родственникам.
Выжидание
На этом стоит остановиться подробнее, потому что подобная форма созависимого поведения встречается чаще всего. Узнав о том, что их близкий наркоман, люди начинают ждать. По сути своей, непонятно чего, ибо рационально понимают – проблема сама не решится. Но в глубине души теплится надежда, что в какой-то момент человек бросит – под давлением разумных аргументов, уговоров, скандалов, шантажа, по собственной воле, из любви к близким, когда кончатся деньги.
Раз за разом ставится новый рубеж, до которого «подождем, а там уже обратимся в клинику». Причин множество. Кажется, пока проблема не озвучена, ее как бы не существует. Кажется, что лечение и реабилитация – это дорого (между тем люди не задумываются, сколько денег уходит на наркотики и насколько дороже встанет лечение при затягивании сроков).
В результате все затягивается настолько, что человеку фактически невозможно помочь: кому-то – бросить наркотики, кому-то – восстановиться, когда телу, психике и душе нанесен непоправимый ущерб.
Еще одним стопором является отсутствие информации о лечении – некоторым родственникам представляются чуть ли не застенки гестапо, в которых над пациентами издеваются, пристегивают наручниками и «лечат без лекарств», унижая и избивая. На деле, чтобы развеять страх, достаточно воспользоваться нашими советами по подбору клиники или реабилитационного центра. Древние методы, сводившиеся к привязыванию пациента к кровати, давно остались в прошлом. Сейчас зависимого могут вести сразу несколько специалистов (от эндокринологов и кардиологов до психиатров и психологов), которые чутко и грамотно обеспечивают постепенный возврат к полностью здоровому состоянию и возможности вести полноценную, активную жизнь. Удобные палаты, качественное питание, эффективные лекарства – конечно, санаторием клинику или реабилитационный центр не назовешь, но это и не жуткие условия, которые видятся перепуганным родственникам.
Созависимое поведение
Ждать. Ждать до упора, до последнего. Никто не может точно сказать, сколько времени пройдет, прежде чем последствия станут необратимыми. Может быть, уже завтра человеку продадут наркотик, смешанный с каким-нибудь ядом (нередко в смесях спайсов попадаются реальные отравляющие вещества). Может быть, у него были предпосылки к развитию психических заболеваний, о которых вы даже не подозревали, или он уже болен, но «под наркотиком» этого не видно. В любой день может произойти передозировка.
Наркозависимость заставляет время работать против наркомана и его близких.
Конструктивное поведение
Обратиться в клинику сразу, как только узнали о зависимости. Убедить человека пойти на лечение. Если не сможете сделать это самостоятельно, воспользуйтесь и в этом вопросе помощью специалистов. Поверьте, не бывает безвыходных ситуаций.
! В процессе лечения помощь психологов обязательно нужна не только самому наркоману, но и его родственникам. Прежде всего, в зависимости от характера пациента и его состояния, близким подскажут оптимальную стратегию поведения. Во-вторых, помогут справиться с сомнениями и страхами. Выздоровление зависимого – это длительный процесс, долгий путь, который потребует огромных сил и терпения. Поэтому профессиональная поддержка для родственников будет совсем не лишней. Помощь психолога поможет не только избежать ошибок в поведении, но и преодолеть все трудности с минимальными потерями.
РЕЗЮМЕ:
1. Действуйте! Как только заметили, выяснили, что близкий употребляет психоактивные препараты, необходимо сразу же начинать действовать. Не стоит заниматься самообманом: «Ну, он с друзьями один раз покурил и сказал, что больше не будет». Как только человек заинтересовался употреблением наркотиков, все – процесс запущен. Проблема уже существует, и чем раньше займетесь ее решением, тем быстрее и проще вы и ваш близкий человек сможете добиться результатов, тем меньше последствий оставит после себя зависимость.
2. Признайте, что больна вся семья. Поймите и признайте: не только вашему близкому придется бороться с зависимостью. Это «война» всей семьи. От момента, как узнали, до завершения реабилитации каждому придется выдержать битву с самим собой – со страхами, усталостью, напряжением. Поскольку сам зависимый утрачивает способность к критическому мышлению, вам придется стать тем самым «маяком», который проведет его по всему пути лечения. Да, значимость врачей и других специалистов огромна. Но поддержка, помощь и грамотное поведение со стороны родственников многократно увеличивают шансы на победу. С другой стороны, каждая ваша ошибка, допущенная слабина, ваш самообман и нежелание бороться с проблемой могут свести вероятность счастливого исхода к нулю.
3. Ищите клинику, реабилитационный центр, специалистов. Подготовьте себя к этому пути. Заранее познакомьтесь с его этапами и познакомьте всех, кто будет вам в этом помогать.
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Случай № 1
Иногда даже специалистам с многолетним опытом становится страшно от того, что могут сделать родители с собственными детьми – от незнания, от каких-то предубеждений, от собственных проблем в голове. Порой работа в реабилитационном центре подкидывает сюжеты, которые могли бы затмить половину голливудских фильмов.
Одним из таких шокирующих примеров для нас стала история одной достаточно обеспеченной семьи (мать была владелицей нескольких магазинов). Но куда же шли деньги? Из 4 детей 3 употребляли наркотики!
Может быть, мать просто была не в курсе?
Нет, мать все знала – двое ее детей умерли от передозировки. Последним оставался как раз наш пациент Костя. За пять лет он успел пройти не то 15, не то 20 детоксов. Матери каждый раз говорили про реабилитацию, убеждали, уговаривали, объясняли, что сын просто умрет, как уже умерли двое старших. Ни в какую!
У нее была просто какая-то пелена на глазах.
Для нее главное было, чтобы дети были при ней, а что они делают и к чему это приведет… Она давала им деньги на наркотики, разрешала употреблять дома, а на лечение сыновья попадали, только когда были при смерти.
Дошло до того, что у них образовался просто какой-то коттеджный наркопритон – мать купила огромный участок, построила там дома для себя и для сыновей. Все жили на одном участке, и все это время дети употребляли наркотики.
После нескольких передозировок Костя все-таки попал на реабилитацию в один из наших центров. Пришлось приложить просто нечеловеческие усилия, чтобы все-таки разорвать эту «пуповину», избавить его от влияния матери, вывести из-под извращенного одобрения зависимости, которое перекашивало все – человек ориентировался, что «мама разрешила», и вообще не мог осознать, в какой опасности находится.
Только когда удалось избавить его от материнской созависимости, дела пошли на поправку. Сейчас Костя работает в центре двойных диагнозов консультантом, имея за плечами не один год чистоты. Его спасение можно считать настоящим чудом – даже не потому, что у него была такая сложная связь с матерью, а потому, что он вообще попал на реабилитацию.
А ведь если бы не чудовищная созависимая позиция матери, братья тоже могли выжить…
Случай № 2
Иногда подсознание творит с близкими людьми чудовищные вещи.
Женя Н., 19 лет. Поступив на реабилитацию, активно, с первых же дней, начал сопротивляться работе в программе. Высказывал твердое намерение покинуть центр, хотя в такие моменты каждый раз что-то заставляло его «побыть еще немного». Во время своих непродолжительных визитов к сыну мать подключалась к работе психологов и помогала в мотивации – уговаривала его «не дурить», остаться и начать работать на выздоровление. Прошел первый, самый трудный месяц. Женя многое узнал, многое понял, ко многому поменял свое отношение. Успокоился, стал более рассудительным, принял взвешенное решение остаться в центре и продолжать реабилитацию.
Но тут вдруг приехала мама и сказала, что забирает его.
Это всегда – чрезвычайное происшествие. Такие неожиданные повороты, выходящие за рамки плана реабилитации, влияют не только на жизнь конкретного человека, но и на жизнь всех подопечных, которые серьезно переживают неожиданное выбытие участника программы. Психолог центра срочно организовал семейную сессию, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Маме говорили, что этого нельзя делать, что он не прошел полный курс и почти гарантированно вернется к наркотикам, но она не хотела ничего слушать.
В ходе беседы психолог выяснил, что некогда юная еще женщина подверглась насилию и забеременела. Росла в маленьком городе, где новости сразу распространяются по «сарафанному радио». Ее отец был высокопоставленным военным и, имея власть и влияние, надавил на насильника, чтобы тот женился на своей жертве. Такой брак изначально был обречен на провал, а для нашей героини стал травмой на всю жизнь. Родился ребенок – мальчик. Случился развод с мужем-насильником. А когда сын начал взрослеть, женщина начала все чаще и чаще замечать в нем сходство с отцом: в мимике, жестах, поведении.
Для нее мальчик стал воспоминанием о перенесенной глубокой психологической травме, и, сама того не осознавая, мать пыталась убрать из жизни ребенка, похожего на ненавистного ей человека.
Все это вскрылось в приватной беседе с психологом, как «нарыв на теле семьи». В этом была причина и наркомании сына, и неуспокоенности самой женщины. Мы предлагали психотерапевтическую помощь, но женщина отказалась.
Женя покинул наш центр, и через какое-то время мы узнали, что он умер от передозировки.
Похожая ситуация случилась с одним из наших пациентов – Олегом. Его отец был обеспеченным человеком с достаточно жестким характером, который считал, что реабилитация – бесполезная трата денег. Олег неоднократно проходил детоксикацию, выходил и продолжал употреблять. Психологам-мотиваторам за все эти многочисленные встречи удалось убедить в необходимости реабилитации маму и даже самого Олега, но не жесткого и принципиального отца.
Однажды, когда тот убыл в длительную командировку, мать все-таки сделала так, чтобы сын поступил в реабилитационный центр.
Где-то через два месяца отец вернулся, приехал в центр и заявил, что забирает ребенка, потому что решение было принято без его ведома. О том, что этого делать нельзя, говорили все: и психологи, и члены группы, на собрание которой он пришел. Сам Олег просто плакал, когда его забирали.
Отцу говорили: «Если вы это сделаете, то его просто убьете».
Ответ поверг всех в настоящий шок: «Я смотрю на вас и понимаю, что, возможно, совершаю ошибку. Но все равно заберу его, потому что решение было принято не мной».
Хорошо, что у этой истории все-таки счастливый конец – юноша еще 5 лет употреблял наркотики, но потом ситуация в семье изменилась и появилась возможность снова войти в реабилитационную программу. Олег успешно прошел реабилитацию и в настоящее время работает консультантом в одном из центров.
Случай № 3
Известный факт: зависимость, будучи первичным заболеванием для одного члена семьи, является симптомом для всех – частью патологических процессов семейной системы. Если в семье есть алкоголик или наркоман, больна вся семья. Все родственники являются или зависимыми от алкоголя/наркотиков/азартных игр, или являются созависимыми.
Как-то раз за помощью в лечении двадцатитрехлетней дочери обратилась супружеская пара. Дочь больна наркоманией и алкоголизмом с 17 лет. В процессе отдельной беседы с мамой, что в семье происходило до начала заболевания дочери, выяснилось следующее.
Они жили в небольшом военном городке – папа, мама и дочь-подросток, отличница, спортсменка и просто красавица. Отец занимал неплохую должность, но, к сожалению, тяжело и часто пил. Семья страдала от его попоек, но сделать ничего не могла.
В какой-то момент мама пациентки узнала о лекарстве, которое несовместимо с алкоголем и вызывает в организме бурную негативную реакцию, если человек, принявший этот препарат, выпьет. Женщина стала незаметно добавлять это лекарство в чай и суп отцу. При этом привлекла к процессу дочь – та должна была отвлекать отца в момент добавления препарата в пищу. Мужчина ежедневно съедал суп или выпивал чай с этим лекарством, шел на работу, выпивал… И вызывал «Скорую», так как ему становилось очень плохо. Сотрудники «Скорой» догадывались о происходящем, но отцу семейства об этом не говорили, жалея семью. Почти год мужчина пил и вызывал «Скорую». Через год смирился и прекратил употреблять вообще.
И вот, казалось бы, счастливый конец истории. Но из-за того, что отец не изменил свое принципиальное отношение к алкоголю, а перестал пить только потому, что ему от этого становилось физически плохо, потребность в спиртном и неудовлетворенность остались. Он стал раздражительным и агрессивным. Это усугубило моральный климат в семье, и практически сразу после того, как прекратил пить отец, его место заняла дочь. Причем девочка начала не только пить, но и употреблять наркотики со всеми «отягчающими» этот процесс обстоятельствами: попаданием в психиатрические больницы, милицию, проживанием в притонах и проституцией. И родители искренне не могли понять, как такое могло случиться с их до недавнего времени тихим и послушным ребенком.
Если сами зависимые и созависимые родственники не проходят лечения, позволяющего изменить нездоровые отношения в семье, не меняются сами в личностном и духовном плане, то с большой долей вероятности в такой семье будут снова и снова появляться наркоманы и алкоголики.
Лечить необходимо всю семью, а не только наркомана.
Прочтите, прежде чем начинать лечение
Мы часто думаем о вещах, которые нас пугают: «это случится с кем угодно, только не со мной». Но масштабы распространения наркомании в мире таковы, что с проблемой зависимости сталкивается буквально каждая третья-четвертая семья.
Когда беда неожиданно приходит в дом, мы начинаем паниковать и совершать одну ошибку за другой, еще больше усложняя и без того непростую ситуацию. Паника – плохой помощник, собственный опыт именно в этом случае – бесполезен. Не ищите путей выхода сами. Успокойтесь и постарайтесь усвоить некоторые простые истины, которые позволят сделать все правильно и начать путь выздоровления как можно скорее.
Шесть советов близким
Это обращение, которое написал наркоман своим родственникам и близким людям. Страдающий от химической зависимости выразил в этом письме надежды и просьбы как бы от всех наркозависимых, которые нуждаются в помощи. И не случайно оно используется для работы на тематических занятиях с родственниками «пострадавших» в центрах лечения алкоголизма и наркомании.
«Я употребляю наркотики, я страдаю, и мне очень нужна помощь.
Будь сильным, не допускай, чтобы я лгал Тебе, не поощряй меня и не потворствуй моим ухищрениям. Правда, какой бы горькой и тяжелой она ни была, всегда лучше, поэтому прими ее.
Не допускай, чтобы я воспользовался Твоим расположением и постоянно хитрил. Так я ухожу от ответственности за свои слова и поступки, а Ты теряешь в моих глазах авторитет и уважение.
Не стоит усугублять положение в тот момент, когда я нахожусь под воздействием наркотиков. Поэтому не нужно ругать меня, взывать к ответственности и совести, провоцировать на конфликт, хвалить, пытаясь задобрить, спорить. Нельзя в этой ситуации для собственного успокоения выбрасывать мои наркотики, так как положение может выйти из-под контроля.
Мои обещания – это ложь, это попытка хоть на немного отсрочить боль. Поэтому наберись решительности и мужества, будь непреклонным и твердым, придерживайся наших договоренностей. В общении со мной постарайся быть терпеливым, не выходи за рамки, не дай гневу овладеть твоими чувствами. И не выполняй за меня то, что я был обязан сделать сам, не лишай меня и себя возможности найти выход из беды.
Во мне живет не только ненависть к себе самому, но и любовь к Тебе!»
Совет № 1: сконцентрируйтесь на том, что поможет как можно быстрее начать лечение
Только квалифицированная медицинская помощь и последующая реабилитация могут избавить человека от зависимости. Поэтому нужно как можно быстрее обратиться в клинику к квалифицированным специалистам. Не поддавайтесь на обещания зависимого самому пойти к врачу – в 90 % случаев он этого не сделает, даже если будет клятвенно заверять, что «вот уже завтра…».
Возможно, в ту минуту, когда он произносит слова, то действительно верит. Но уже завтра все может измениться. Наркотик опять «заявит о себе», появится потребность в новой дозе, и человек просто забудет или убедит себя, что «ну еще последний раз… и все». Эти «последние разы» могут продолжаться очень долго.
Поэтому уговаривайте человека сразу: «вот сейчас съездим к врачу, он с тобой поговорит, и, если будешь согласен, останешься в клинике». Можете мотивировать экстренную необходимость хотя бы тем, что нужно проверить физическое здоровье.
В ряде случаев отвезти человека в клинику нет никакой возможности. Отказывается – и все! Еще недавно это было серьезной проблемой, поскольку принудительное лечение в нашей стране запрещено. А большинство наркоманов совершенно не хотят лечиться и активно пользуются правами, о которых им охотно рассказывают наркодилеры.
Но сейчас в крупных городах есть возможность воспользоваться услугами специалистов-мотиваторов – людей, которые приедут к вам домой и уговорят – именно уговорят – вашего близкого прямо сейчас собраться и поехать в клинику.
Совет № 2: наберитесь сил и терпения
Даже самые лучшие специалисты не могут излечить наркоманию за неделю. Ведь зависимость оказывает комплексное влияние на все жизненные сферы. Потребуется длительный период не столько лечения, сколько реабилитации – возвращения к полноценному, социальному, здоровому и активному образу жизни.
На период лечения и реабилитации вам нужно стать поддержкой и опорой, а не дополнительным фактором давления. Только терпение и забота друг о друге помогут всей семье достичь желаемой цели.
Совет № 3: не давайте себе увязнуть в чувстве вины
Мы не будем заниматься ложным успокоением – значительная часть ответственности за то, что человек начинает принимать наркотики, может лежать на его близких.
Вот три ключевых момента, которые обычно приводят к трагедии:
• Недостаток информации
• Невнимательность со стороны родных
• Неправильные семейные ценности
Прежде всего, табу на тему наркотиков в семье лишает самого молодого ее члена адекватной защиты от активных наркодилеров и приятелей, уже попавших в этот «порочный круг». Незнание – источник многих проблем. Незнание того, чем это опасно, почему и как отказаться, что за этим последует. В искаженном виде информацию легко можно получить от друзей-наркопотребителей или наркодилеров. Но это будет имен– но та информация, которая станет способствовать вовлечению в потребление наркотиков, а не защите от них.
Невнимательность близких не позволяет вовремя заметить проблему, в самом начале, когда человека проще вернуть на правильный путь, когда еще нет критических повреждений психики и всего организма, когда человек еще сохраняет достаточную степень адекватности, чтобы осознать самоубийственность нового «увлечения». Невнимательность и неучастие родных также очень мешают эффективно пройти лечение и реабилитацию.
Семейные ценности, не предполагающие здоровый образ жизни, внимание друг к другу, участие и эмоциональный контакт создают людей, потенциально расположенных к приему психотропных препаратов. О деструктивных семьях написано много литературы, каждая неблагополучная семья имеет свои особенности, поэтому мы не будем касаться этого подробно. Заметим лишь, что семья – это фокус внимания специалистов-психологов, которые работают с зависимым на этапе реабилитации. Если не прорабатывать причины неблагополучия в семье, бороться с зависимостью очень сложно. Возвращаясь в семью, вчерашний наркопотребитель рискует сорваться, столкнувшись с теми же деструктивными формами взаимоотношений, которые во многом способствовали началу его наркотизации.
Об этих пунктах необходимо думать еще до того, как вы заподозрили неладное. Если трагедия уже произошла, последнее, на что надо тратить время, – поиск вины. Более того, внутренние переживания лишат вас тех самых моральных сил, которые понадобятся всей семье, потому что лечение зависимого человека – это испытание и для его близких.
Кроме того, поиск вины зачастую приводит к оправданию наркомании – родители мирятся с тем, что их сын или дочь принимают наркотики, потому что «ну, мы же сами виноваты, недодали, недосмотрели».
! Ситуация в семье может создать предпосылки уязвимости личности, но, в конечном итоге, каждый сам делает выбор.
Никто не виноват, кроме наркодилеров, распространяющих психотропные препараты!
Если чувствуете вину, единственно верный способ исправить ошибки – помочь близкому вернуться к нормальной, здоровой, полноценной жизни. Как говорится, «слезами горю не поможешь».
Совет № 4: не обвиняйте, не допускайте агрессии
Иная крайность со стороны близких – «он сам виноват». В этот момент вспоминаются всевозможные прегрешения (как бы трагично это ни казалось): от двоек в школе до общей лени. Нередко звучит шаблонный «аргумент»: «А мы говорили, что рано или поздно ты докатишься».
Что это – справедливая оценка случившегося? Безусловно, нет. Обвинительная позиция близких – признак собственной слабости, отчаяния, страха перед неизвестным. По сути, защитная реакция, которая охраняет человека от травмирующих его переживаний. Например, если «виновный» найден, этот виноватый – он, то, значит, виноват во всем не я. Если виноват не я, я снимаю с себя всю ответственность. Если я снимаю с себя всю ответственность, я не буду ничего предпринимать.
Вот примерно так работает этот механизм защиты. Стоит ли говорить, что такая позиция не конструктивна? Ведь нужно действовать, а не искать того, кто «должен быть наказан». Зачем в такой ситуации кого-то наказывать? Все и так в крайней степени не хорошо, всем плохо, все уже «наказаны».
И все же, виноват ли зависимый на самом деле? Честно признаемся, на это нет и не может быть ответа. Как мы уже говорили, зачастую современные наркодилеры – тонкие психологи и манипуляторы. Они быстро находят уязвимости в человеческом сознании, которые есть у каждого. Кто знает, в какой момент, как и почему ваш близкий выбрал этот путь.
В любом случае, помните: обвинительная позиция, да еще и с агрессией – самый верный способ окончательно «утопить» человека. Страх, чувство вины и одиночества, уверенность, что его не любят, могут толкнуть зависимого на необдуманные поступки, способные привести к печальным последствиям: от побега из дома до самоубийства.
Наркодилеры, вовлекая новичка, в первую очередь, пытаются разговорами и манипуляциями подорвать доверие и любовь к семье. Своей жесткой позицией обвинения вы только сыграете на руку преступнику, который и так сделал все, чтобы разрушить жизнь вашему близкому и вашей семье.
Поэтому, как бы это ни было сложно, постарайтесь удержать себя в руках.
Совет № 5: не поддавайтесь манипуляциям зависимого
Все зависимые со временем превращаются в отличных манипуляторов. Это не свойство натуры самого человека – так влияет наркотик, заставляя забыть о прежних ценностях, а все усилия направляя только на то, чтобы получить новую дозу.
В некоторых семьях, где «манипулятор» занял центральную позицию, могут происходить вопиющие события. Мы не раз в практической работе встречали ситуации, когда матери покупали наркотики, чтобы сыновья «хотя бы занимались этим дома, в санитарных условиях, а не где-то в подворотне», чтобы «облегчить его муки», чтобы «оградить от дружков, которые могут предложить чего похуже».
Как ни странно, понять таких родителей можно. Ведь общая неинформированность населения в вопросе «что делать, если ваш близкий – наркоман» оставляет несчастных родителей один на один со своей бедой. Ошибки в этом случае неизбежны: ведь большинство заранее не знает, что наркотик делает из человека неплохого манипулятора. Нечеткое понимание того, что нужно делать дальше, и лукавые «подсказки» зависимого заставляют родственников блуждать во мраке собственного бессилия.
Какая тактика в общении с зависимым будет правильной? Тактика достижения единственной цели – ваш близкий должен немедленно начать лечение при участии специалистов. Никакие уговоры, давление «на жалость», угрозы и шантаж не должны вводить вас в заблуждение. Если то, о чем говорит наркоман, препятствует основной цели, это должно отбрасываться как заведомо вредное.
Вас могут просить помочь прекратить нечеловеческие муки (деньгами, разумеется), пригласить на дом врача (почему врач на дому – не выход, расскажем позже), дать денег, потому что «иначе убьют кредиторы»; зависимый при этом может плакать, умолять, взывать к вашим чувствам, шантажировать суицидом или уходом из дома. Не поддавайтесь, помните о главной цели: как можно скорее – в клинику.
Можно идти на уловки, обещать, тянуть время, а тем временем уже набирать номер заранее выбранного стационара.
Совет № 6: не пытайтесь заместить наркотик чем-то другим
Еще один распространенный вопрос, которым задаются близкие: «Чего ему не хватает?» И вот тут, бывает, на наркомана сваливается целая гора «подарков» (конечно, в зависимости от финансового состояния его семьи): от компьютеров до машин и квартир. Кажется, что стоит дать новую «игрушку» (а ведь, по сути, это именно так), и наркотики перестанут интересовать – человек получит то, чего ему когда-то не хватало, займется новыми увлечениями, начнет новую жизнь.
Важно понимать: даже если первая доза была принята из-за неудовлетворенности («Блин, родители комп не купили – дай затянуться»), это не причина идти на поводу – таким образом вы только закрепите сценарий шантажа. А что потом? Каждый раз, когда от вас что-то будут требовать, слушать угрозы «я опять пойду колоться»? Ведь претензии и запросы будут только расти.
Кроме того, для зависимого на первом месте всегда стоят наркотики. Никакая дорогая машина и даже квартира не заменят новую дозу. Все эти «подарки», скорее всего, будут тут же проданы, чтобы надолго обеспечить возможность покупать то, что человеку сейчас необходимо больше всего.
Поэтому подобная стратегия может оказаться не только бесполезной, но и опасной – время неумолимо отнимает у наркомана физическое и психическое здоровье, разрушает его жизнь.
Куда обращаться
В России действует п. 2 статьи 55 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г., который прямо запрещает негосударственным лечебным учреждениям лечить наркоманов.
Звучит указанный пункт так:
«Лечение больных наркоманией проводится только в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения».
Когда создавался закон, в лечении часто применялись медицинские наркотики и сильнодействующие средства. Вводя данное ограничение, законодатели подразумевали, что контроль за оборотом наркотиков и сильнодействующих средств в частных клиниках сильно затруднен. Поэтому было проще отказать частникам в самой возможности лечить наркозависимых.
Сейчас, когда оборот сильнодействующих средств прекрасно отрегулирован и частные клиники получают разрешения на работу с подобными препаратами, когда их деятельность жестко контролируется, данная законодательная норма, безусловно, устарела. Это признают практически все специалисты как частных, так и государственных лечебных учреждений, да и чиновники.
Обратите также внимание, что запрет проходить лечение от наркомании в частных клиниках противоречит норме, изложенной в п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ: «Пациент имеет право на: … выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом». Более того, статья 41 Конституции РФ гарантирует право гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь, не ограничивая его в праве выбора врача или лечебного учреждения.
Но пока – закон есть закон. Лечить наркоманию можно только в государственной клинике.
Однако закон не запрещает частникам лечить самого наркомана. Например, сопутствующие психические расстройства. Закон также не запрещает проводить социальную реабилитацию наркозависимых. Более того, не требуется даже лицензия – это не лицензируемый вид деятельности.
Мы не хотим, чтобы у читателя создалось впечатление, что мы как-то лоббируем интересы частных клиник. Мы детально разбираем эту тему лишь потому, что прекрасно понимаем, что, когда встанет вопрос о выборе клиники для лечения близкого, сначала люди обратятся к Интернету. И первое, что увидят, – обилие предложений частных клиник, но отнюдь не государственных. В этом неподготовленному читателю нужно помочь разобраться.
Лечением наркомании ошибочно называют весь процесс помощи наркозависимому – от момента отмены наркотика до момента, когда зависимый выходит в самостоятельную жизнь. На самом деле лечение – это первый и самый короткий этап на всем этом длинном пути, когда роль врача максимальна, а наркоману нужно без ущерба для психического и физического здоровья пережить синдром отмены.
Дальше начинается долгий период реабилитации – наркозависимый учится жить без наркотика. И этот период в разы важнее начального, поскольку от его успеха зависит, вернется человек к употреблению или нет. Поэтому давайте договоримся о терминах: лечение наркомании – это медицинская помощь при ломке; лечение наркомана – любая медицинская помощь наркозависимому по любому поводу, не связанному с отменой наркотика (например, лечение гепатита, коррекция поведения); выздоровление – многоэтапный процесс, который проходит зависимый, включающий в себя короткий период лечения и продолжительный период реабилитации.
Теперь давайте разберемся, что значит «лечение наркомании». В строгом смысле это – медицинское вмешательство, направленное на медицинскую коррекцию специфических для наркомании симптомов. Какие состояния являются специфическими (т. е. характерными только для данного заболевания)? Безусловно, это весь комплекс симптомов, наблюдаемых при отмене наркотика, т. е. абстинентное состояние (в случае наркомании опийной – так называемая «ломка»). Все остальное, что может наблюдаться у наркомана, относится к симптомам неспецифическим, то есть наблюдается и при других заболеваниях. Поэтому никто не запретит частникам лечить, например, депрессию, психотическое расстройство, гепатит и так далее. То есть все, что не касается «синдрома отмены».
Как только ломка снята, должен наступить этап реабилитации. Социальная реабилитация наркозависимых возможна как в государственных, так и в негосударственных центрах. И здесь, безусловно, пальма первенства у частников. Просто в нашей стране так исторически сложилось, что именно частные центры появились первыми и, соответственно, наработали богатый опыт. К моменту, когда государственные реабилитации только начали появляться, частных было уже несколько сотен.
В ряде случаев наркоман может пропустить фазу лечения, пережив абстинентный синдром дома, и обратиться сразу за реабилитационной помощью. Это крайне сложно, например, в случае опийной наркомании. Зато при зависимости от марихуаны или спайсов абстинентный синдром может быть не выражен, на передний план выходят личностные изменения. В этом случае роль врача минимальна и сводится к оценке состояния человека, коррекции психических нарушений, определению противопоказаний к реабилитации, если таковые есть.
Итак, поговорим, как выбрать тех, кто поможет справиться с наркоманией.
О государственных клиниках мы скажем лишь вскользь, поскольку, как правило, это хорошо известные учреждения городского или федерального подчинения. Их преимущество в том, что, находясь в системе государственного здравоохранения, они максимально надежны: никуда не денутся, если с вашим близким что-то случится. Клиники останутся на своем месте, и в любой момент есть возможность обратиться с жалобой или получить дополнительную консультацию и разъяснения. Второе преимущество в том, что ряд услуг оказывается бесплатно.
Государственные клиники существуют давно, и в Интернете можно почитать множество историй, связанных с лечением. Это и положительные и отрицательные отзывы, оставленные чуть ли не со времен появления Интернета. Поскольку государственные и частные центры держатся особняком друг от друга, черный пиар не распространился на сферу государственной медицины, то есть никто специально не пишет очерняющих выдуманных историй. Поэтому отзывы о таких центрах можно считать более-менее объективными.
К тому же методы черного пиара обычно применяются к конкурентам с меркантильной целью – переманить клиентов и заработать как можно больше денег. В случае с бесплатной государственной медициной, как вы понимаете, это бессмысленно.
Помимо отзывов, можете получить информацию об условиях и методах лечения в государственной наркологии как в самих центрах, так и в группах созависимых родственников, которые не сложно найти практически в любом городе.
Не стоит забывать, что бесплатное лечение в государственной клинике не анонимно, и сведения о пребывании пациента в таком учреждении передаются в диспансеры по месту жительства.
Поговорим, как выбрать частную клинику или реабилитационный центр, поскольку многие склоняются в выборе именно к этому варианту.
Как выбрать клинику или реабилитационный центр
Увы, приходится признать – сделать наркоманию источником дохода пытаются не только наркодилеры, но и люди, которые именуют себя врачами или психологами. Прекрасно понимая, что семья готова отдать любые деньги, влезть в долги, продать квартиры/машины – словом, отдать последнюю рубашку ради своего близкого, шарлатаны не скупятся на цветистые обещания, под шумок вымогая все больше и больше.
В лучшем случае, подобная «помощь» не приносит никакого результата. В худшем – семья в отчаянии, а сам пациент – в инвалидном кресле или в морге.
Но как отличить среди десятков предложений то, которое действительно подарит надежду на избавление от порочного круга наркомании?
Сайт
Сегодня, благодаря современным технологиям, завести сайт может кто угодно – даже «специалист по разведению кактусов на дому». Поэтому отсутствие собственного «интернет-представительства» сразу должно насторожить.
Но допустим, сайт у клиники или центра есть – на что стоит обратить внимание? Конечно же, на размещенную там информацию: о специалистах, о методах, которые применяются, о самой зависимости. Она должна быть действительно полезной, а не нести исключительно «рекламный посыл» вида: «Какие мы хорошие».
Чем больше информационных статей, тем больше доверие. Если квалификация специалистов замалчивается, а о методах толком ничего не говорится, наверняка вы столкнулись с шарлатанами. Закройте сайт и больше к нему не возвращайтесь.
С другой стороны, может ли респектабельный сайт являться гарантией? Тоже нет. Скорее, это «первичная лакмусовая бумажка». Понимая, сколько денег можно получить от отчаявшихся родственников, практичные мошенники сегодня не скупятся заказывать дорогие, качественные сайты, наполненные нужной информацией, и даже фотографии специалистов размещают, остепененных и вызывающих доверие.
Как в таком случае вычислить недобросовестных «целителей»?
1. Проверьте лицензию на медицинскую деятельность. Если это – клиника, на сайте она должна быть обязательно. В ней должны быть указаны виды деятельности, которыми данная организация может заниматься.
2. Проверьте адрес, по которому расположена клиника или реабилитационный центр. Он обычно находится в разделе «Контакты» на сайте. Физический адрес клиники должен совпадать с адресом, указанным в лицензии. Никакие разговоры о том, что «мы пользуемся лицензией другой клиники и работаем с ней по договору» не должны ввести вас в заблуждение. Оказывать медицинскую помощь каждой конкретной организации разрешено только по определенному фактическому адресу.
3. На сайте должны быть реквизиты юридического лица, которое оказывает нужные вам услуги. Как правило, это ООО или ЗАО, у которого есть ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика). Это – открытая информация, и вам ее должны предоставить, даже если она не размещена на сайте.
4. Зная реквизиты юридического лица, проверьте эту организацию на сайте налоговой службы: http://egrul.nalog.ru/
Вы получите так называемую выписку, в которой увидите:
– дату регистрации компании,
– юридический адрес,
– лицензии, которые данной организации выданы.
Надежная организация действует несколько лет с момента регистрации, номера лицензий должны совпадать с теми, которые размещены на сайте, юридический адрес организации (из выписки с сайта налоговиков) должен совпадать с фактическим (с сайта клиники). Последнее условие не является обязательным, но крайне желательным.
Дата создания организации должна соответствовать информации о сроке работы на рынке. Некоторые недобросовестные коммерсанты намеренно завышают его, чтобы вызвать доверие.
5. Проверьте дату создания сайта вот здесь: http://www.ripn.net/nic/whois/ В окошко впишите адрес сайта (так называемый URL, например, ne-zavisimost.ru), нажмите кнопку «Search». В результате получите информацию о дате регистрации адреса сайта (created), а иногда даже сможете посмотреть имя владельца (person). Будет правильным сопоставить дату создания сайта с тем, что на нем написано. Например, если говорится, что клиника или реабилитационный центр действует 5 лет, а сайт создан только в этом году, это не подходящий вариант. Конечно, вам расскажут, что «раньше был другой сайт». Этому не стоит доверять. Честные клиники и реабилитационные центры дорожат своими сайтами и берегут, не меняя годами их имена.
На всякий случай выпишите название и контакты – зачастую одна и та же организация «плодит» несколько сайтов в расчете на больший охват потенциальных пациентов. Если вы попали на организацию, которая владеет целым «букетом сайтов», это опять же повод серьезно задуматься и продолжить поиск.
Отзывы и реклама
Можно ли доверять отзывам и рекламе? Конечно, существует закон о предоставлении в рамках рекламы достоверной информации, но он достаточно расплывчат, так что у шарлатанов остается возможность составления выгодных формулировок.
С отзывами еще сложнее – сегодня их можно банально заказать за деньги (и кстати, совсем небольшие). Людей, которые готовы наживаться на чужой беде, совершенно не смущают подобные «мелочи».
Да, наркозависимость – это беда, о которой не принято распространяться. Но у действительно хорошей клиники или у надежного реабилитационного центра обязательно должны быть клиенты, готовые в личном порядке поделиться «впечатлениями» и, как говорят в Америке, «successstories» (историями успеха).
Некоторые организации предоставляют возможность посетить группы для созависимых родственников и в личном порядке познакомиться с историями родственников, чьи близкие находятся на разных стадиях выздоровления. В ходе подобных собраний вы узнаете максимально корректную информацию не только о реабилитационном центре или клинике, которую вы посещаете, но и о других учреждениях подобного рода, в том числе и государственных.
Поэтому отзывы в Интернете не имеют ни веса, ни значения в сравнении с тем, что можно получить из первых рук.
Если все же, по каким-то причинам, вы не можете посетить группы созависимых, просматривая отзывы, обратите внимание на их содержание – чем больше конкретики (сколько времени понадобилось на выздоровление, какие методы использовались, на каком препарате «сидел» пациент), тем больше доверия.
Черный PR
Как правило, это выражается в различных статьях и блогах, посвященных превознесению конкретной методики и очернению добросовестных клиник и реабилитационных центров.
На самом деле, у квалифицированных специалистов нет ни времени, ни желания заниматься подробным изучением деятельности коллег – они сосредоточены на том, чтобы повысить собственную эффективность. Поэтому, если организация замечена в постоянном распространении «порочащей информации» о коллегах, это еще один повод задуматься. Не лишним будет показать подобные статьи специалисту, которому вы доверяете (хотя бы даже и терапевту). Зачастую шарлатаны не слишком осторожны в использовании терминологии, и логические нестыковки может обнаружить практически любой профессионал, даже не связанный с наркологией.
Просмотрите несколько сайтов с отзывами. Если негативные повторяются на нескольких сайтах как под копирку – это работа конкурента.
Знакомство с клиникой, реабилитационным центром
Лучший способ проверить организацию – посетить ее лично. Все равно по информации, предоставленной в Интернете, всю правду никогда не узнаете – серьезный махинатор может настолько качественно проработать стратегию, что и отзывы будут убедительными, и информация на сайте внушать самое крепкое доверие.
Что еще можно сделать, чтобы принять решение наверняка? Поговорите с главным врачом клиники или руководителем реабилитационной программы, если речь идет о реабилитационном центре, со специалистами, которые будут принимать участие в помощи вашему близкому. Осмотритесь: каковы палаты, «условия содержания», насколько доброжелателен и открыт персонал, с готовностью ли демонстрируют все это или стараются что-то скрыть.
Не стесняйтесь задавать вопросы: как проходит выздоровление, как гарантируют отсутствие возможности проноса наркотиков к выздоравливающим, какие побочные эффекты есть у используемых препаратов, если они применяются, оказывается ли психологическая помощь и в каком объеме, какой реабилитационный курс? Такой визит можно провести заранее в формате первичной консультации, которая в большинстве клиник и центров бесплатна.
Любая настороженность, резкость со стороны персонала либо нежелание раскрывать информацию должны вас насторожить. Квалифицированные, честные специалисты не будут ничего скрывать – потому что прекрасно понимают ваше беспокойство и готовы открыто говорить о своей деятельности. И не только чтобы развеять ваши подозрения, но и чтобы вы с «открытыми глазами» помогли близкому встать на путь выздоровления. Ведь очень многое будет зависеть не только от тех, кто помогает, но и от вас.
Кому нельзя доверять
Важный момент. Помните, наркомания никогда, ни при каких условиях не лечится амбулаторно (на дому). Таким образом может проходить реабилитация на поздних сроках, когда основной курс позади. Но начинать лечение наркомании на дому нельзя, поскольку, во-первых, это запрещено законодательно, во-вторых, бессмысленно, поскольку срыв практически неизбежен.
Существует несколько ключевых моментов, которые должны вас насторожить, если вы попали в руки недобросовестных «специалистов» или откровенных шарлатанов:
• «Специалист» сильно зациклен на деньгах или, напротив, не желает обсуждать данный вопрос.
Если вам не могут сразу назвать хотя бы ориентировочную стоимость курса, с вас со 100 % вероятностью просто собираются вытянуть столько, сколько получится. Если в разговоре все время пытаются выяснить, по карману ли вам лечение, сколько вы можете потратить, уточнить ваше финансовое положение – это нечистоплотный подход. Если же в принципе тему оплаты обходят стороной, «заливаясь соловьем» о самом лучшем лечении, – вставайте и уходите. Ничего хорошего вас здесь не ждет.
• «Специалист» сыплет малопонятными терминами.
До сих пор у нас распространено заблуждение, что профессионал должен выражаться малопонятным языком с кучей терминов. Но настоящий специалист не стремится доказать, что он «мега-профи» – не это его цель. Ему нужно объяснить принципы лечения, рассказать, к чему готовиться, какие результаты можно ожидать в ближайшем будущем. Он будет стараться говорить с вами на одном языке. А если и употребит какие-то не слишком понятные термины, с готовностью объяснит смысл сказанного иными словами.
А вот за обилием сложной терминологии с 90 % вероятностью скрываются шарлатаны, в большинстве своем сами слабо понимающие, о чем говорят, – они просто нахватались сложных терминов, а теперь бравируют ими, создавая имидж высококлассных специалистов.
• «Специалист» делает из лечения большую тайну.
Квалифицированному профессионалу, который действует согласно законной методике, скрывать нечего. Вам с готовностью расскажут обо всех этапах выздоровления и предоставят необходимую информацию – в том числе об используемых препаратах, если их планируется применять для лечения сопутствующих расстройств. Любая тайна – повод для беспокойства. В организациях, которые делают из своих методов «коммерческий» или какой-либо другой «секрет», чаще всего используют неэффективные или, что еще хуже, опасные, запрещенные методы.
• Вам обещают исцеление за «один укол» или «один день (неделю)».
Это откровенное шарлатанство. Если бы такой «укол» или способ были, о них бы знала вся медицинская общественность, а проблемы наркомании не существовало бы.
• Рассказывают о методике, которая «применяется в Кремле», «разработана в КГБ» и вообще – для избранных.
Таких не существует. Есть проверенные временем, опытом и жизнями сотен тысяч наркоманов подходы, которые никто не скрывает, а специалисты всего мира сообща открыто обсуждают.
РЕЗЮМЕ:
Если это коснулось вас:
1. Уясните простые правила, описанные в этой главе, и не делайте распространенных ошибок в самом начале пути.
2. Примите факт того, что самостоятельно, скорее всего, вы не справитесь, начните искать нужных специалистов.
3. Тщательно подходите к выбору клиники или реабилитационного центра.
4. Запомните несколько характерных признаков, выдающих мошенников; подбирая специалистов, не попадитесь в руки шарлатанов.
5. Настройтесь на то, чтобы активно участвовать в выздоровлении близкого.
6. Запомните, что в процессе участвуют не только врачи, но и целый ряд других специалистов. Например, роль психолога гораздо значительнее роли врача на важнейшем этапе – реабилитации.
Как уговорить лечиться
Это очень сложно сделать неподготовленному человеку. Тем более – близкому родственнику, которому не безразличен попавший в зависимость к наркотику человек. Мешает многое – отсутствие опыта, разрушенный эмоциональный контакт, страх неудачи, собственные проблемы, которые не оставляют времени. Но попытаться стоит. Хотя бы раз. При этом всегда нужно помнить, что неудача – не конец, а, напротив, начало. Вы уже сделали первый шаг, значит, сделаете и второй. Отчаиваться не стоит, ведь всегда есть возможность прибегнуть к помощи специалистов, если уговорить наркомана на лечение самостоятельно не удается.
Конечно, каждый случай индивидуален, но есть общие ходы, правила и приемы, которые можно использовать в мотивации наркомана к началу лечения.
Выберите время и место
Для того чтобы беседа сама по себе имела шанс на благополучный исход, необходимо, в первую очередь, правильно выбрать время ее проведения. Вне зависимости от стратегии, по которой вы будете убеждать зависимого, если время и место выбраны неправильно, вся идея будет обречена на провал.
1. Никогда не пытайтесь убеждать человека, который находится в наркотическом опьянении
С одной стороны, в подобном состоянии человек легко управляем и, казалось бы, легче уговорится. Но он также непредсказуем – согласившись сейчас, уже во время дороги или по приезде в клинику может начать буянить и отказываться от лечения. И вы ничего не сможете поделать. Более того, реакция может представлять угрозу и для окружающих, и для самого зависимого.
К тому же человеку под действием вещества настолько хорошо, что он не в состоянии адекватно воспринимать проблемы и потери, которые влечет зависимость. В эти моменты он переживает все через призму удовольствия от наркотика. И пусть оно ложное, смертельно опасное, зависимый этого не осознает.
2. Не пытайтесь разговаривать во время выраженной абстиненции
Это опять же момент очень «скользкий». С одной стороны, испытывая боль, человек согласится на что угодно, если пообещают, что все неприятные ощущения прекратятся. С другой стороны, когда ему больно, зачастую вообще не до разговоров. Так что беседа может закончиться, не начавшись. К тому же, если решение о лечении было принято неосознанно, а под влиянием боли, с большой вероятностью зависимый оставит клинику, как только избавится от негативных проявлений в виде ломки. То есть, по сути, он «почистит организм» и вернется обратно к наркотикам. Более того, подобное прерванное лечение создаст ложное ощущение безопасности – «зачем бросать наркотики, если в любой момент можно поехать подлечиться, а потом снова здоровым продолжить употреблять».
Вместе с тем, мотивировать во время ломки можно и нужно, когда пациент находится в клинике и его состояние полностью контролируется врачом. Но в данном случае этим должны заниматься специально подготовленные специалисты, которые при необходимости привлекают к процессу близких. Нужно быть готовым и не отказываться от участия в таких мотивационных сессиях, если психолог вас на них пригласит.
3. Не нужно вести диалог «на нейтральной территории»
Во-первых, как правило, нейтральной территорией является какое-либо общественное место, пусть и малолюдное. Зачем вам лишние уши? Да и сам зависимый в подобной обстановке будет чувствовать себя некомфортно, дергаться, нервничать, лгать.
Если человек живет отдельно, лучше провести беседу у него дома. Там он будет наиболее расслаблен. Если живете вместе, еще лучше – не нужно никуда ехать.
В процессе разговора и так достаточно высок риск напряжения, спора, перехода на повышенные тона. Поэтому необходимо хотя бы изначально обеспечить максимально спокойную, комфортную атмосферу.
Что же до времени, оптимальным является период, когда эффект от наркотика уже закончился, но синдром отмены еще не сильно выражен. В этот момент зависимый наиболее адекватен и способен вести конструктивный диалог.
Далее необходимо выбрать одну из стратегий проведения беседы. Заранее предугадать наиболее удачную невозможно, поэтому не нужно отчаиваться, если первая попытка провалится. Главное, оставайтесь твердыми в своих намерениях.
Продемонстрируйте потери
Согласно российскому законодательству, человека можно лечить от наркотической зависимости только добровольно. Но чтобы согласиться на лечение, необходимо признать сам факт болезни или проблемы, не так ли? Иначе зачем лечить здорового человека?
Отрицание болезни – это первое препятствие на пути лечения и один из симптомов зависимости. Человек начинает говорить: «Ну да, я попробовал марихуану. Ну да, я немножко попробовал героин. Но у меня нет никакой проблемы. Я могу бросить в любой момент. Со мной не происходит ничего страшного». Или другие отговорки-манипуляции: «Когда я употребляю, мне хорошо, когда не употребляю – плохо. Вы хотите, чтобы мне было плохо?»
Как помочь человеку осознать наличие проблемы? Показать ему последствия, показать реальные потери, которые вызывает употребление психоактивных веществ. Причем в данном случае бесполезно говорить о «возможных будущих проблемах» – все это для зависимого «писано вилами по воде». Покажите ему то, что уже произошло:
• Появились финансовые проблемы, долги
• Появились проблемы в личной жизни
• Проблемы на работе
• Хуже стало со здоровьем (нужно указать, что конкретно)
• Проявили себя психологические проблемы (бессмысленная агрессия, неуправляемое поведение, потеря прежних друзей)
• Формируется асоциальное поведение (начались кражи, ложь, драки и т. д.)
• Изменился внешний вид
То есть все негативное, что возникло вследствие зависимости. Первая задача родственников – заметить эти проблемы и указать на них. Лучше заранее подготовиться, составить список, чтобы ничего не забыть во время трудной беседы.
Обычно пациент преуменьшает потери, находит отговорки, обесценивает вами сказанное, но последствия растут, снежный ком изменений к худшему нарастает, и в какой-то момент человек сам может захотеть лечиться. Это идеальный момент, чтобы уговорить его отправиться в клинику.
Но, в любом случае, даже если зависимый преуменьшает значимость сказанного и приходится буквально на пальцах объяснять ему, что происходит, все равно именно в этот «момент демонстрации потерь» его проще всего уговорить.
Важно, как мы уже упоминали, самим не обесценивать проблемы. Если не будете испытывать уверенности, что человека прямо сейчас, сию минуту нужно начинать лечить, не будете достаточно убедительны.
Лучше всего, если беседа проходит именно в кругу близких – единичное мнение всегда больше воспринимается как субъективное. А сразу несколько «голосов» будут более объективными, во-первых. А во-вторых, таким образом можно реализовать грамотный «сценарий» убеждения.
Каждый из родственников должен определенным образом построить свои фразы. Без обвинений и унижений – это очень важно. Нужно оперировать только фактами, демонстрируя реальные, уже полученные результаты.
Одного человека достаточно легко сбить с толку – например, зацепиться за любой факт и начать спорить, а потом уже и человек выдохся в ходе этого спора, и не вспомнить, с чего все начиналось. Если же в разговоре участвуют несколько человек, между ними можно «распределить роли» – а точнее, темы разговора (работа, здоровье и т. д.). А главное, при попытке зависимого перевести адекватный диалог в бессмысленный спор, уйти от темы, остальные участники смогут вернуть разговор в конструктивное русло.
Установите границы
Если демонстрация потерь не дает результатов, нужно выставлять границы – «Хорошо, ты считаешь, что все нормально, но у нас это недопустимо».
Дальше необходимо придумать правила и меры, которые будут предприниматься при нарушении. К примеру, если человек приходит домой «под дозой», если перестает ходить на работу, если увольняется, начинает красть вещи из дома и т. д. Важно действительно предпринять эти меры: например, не пустить домой, лишить финансовой поддержки. Чтобы последствия оказывали на человека дополнительное давление.
Это для многих родителей и близких очень серьезный шаг. Многие боятся его сделать, находя теплые чувства препятствием для выстраивания границ. Многим кажется, что это «очень жестко», если не сказать «жестоко». Такое поведение типично для созависимости. Мы привыкли жить в определенных ролях, и нам невыносимо думать, что в этот самый момент роль «чуткой матери» вреднее для собственного чада, чем роль «расчетливого и холодного соседа». Нужно понимать: оставаясь в прежних позициях, отказываясь от выстраивания жестких границ, вы с каждым днем усугубляете ситуацию, отдаляете своего близкого от выздоровления.
Если же найти в себе силы и начать выстраивать отношения по новым правилам, у зависимого начнет постепенно сужаться зона комфорта. Если раньше он не замечал последствий употребления, то теперь почувствует, как лишается чего-то значимого (денег, жилья и т. д.), каких-то конкретных, значимых вещей. Наркотик перестает быть источником только удовольствия, но становится причиной серьезных проблем. Это может привести к тому, что человек сам захочет начать лечение.
Оцените искренность согласия
Отдельно стоит упомянуть согласие зависимого на лечение. По крайней мере, в 30 % случаев, родственники сталкиваются с тем, что человек соглашается на лечение… Но! Предлагает его отложить по различным причинам.
• Закончить проект на работе
• Поправить финансовое состояние
• Закрыть кредит/раздать долги
• Выбрать клинику и все обдумать
Вариантов множество. И они кажутся достаточно убедительными, особенно если звучат после продолжительного прессинга со стороны родственников. Кажется, ваша стратегия наконец-то возымела эффект, удалось убедить человека, «прожать» его на лечение – еще немного, и все мучения закончатся.
На самом деле, с высокой вероятностью в борьбу с вами опять вступает зависимость, но на этот раз уже, так сказать, обходным путем. Общеизвестно, если с человеком согласиться (особенно, если пришлось долго уговаривать оппонента или он не слишком рассчитывал на успех), то он расслабляется настолько, что готов отсрочить решение, – главное, что согласие получено. А дальше процесс может тянуться практически до бесконечности (или же обещание вновь повторяется, но действие откладывается под новым предлогом).
Эту «стратегию» зависимый просчитывает безошибочно – действительно, как только само согласие на лечение получено, родственники расслабляются. А зря! Ведь согласие чисто формальное, для галочки, только чтобы «отстали». По сути, вы так ничего и не добились – уже завтра он забудет обо всех доводах, которые привели ему сегодня. Уже завтра придется начинать все с начала.
Еще одна из распространенных стратегий наркозависимых – «согласие на детокс». Детоксикацией, или «детоксом», называют самый начальный – медицинский этап лечения. Он достаточно короток и влияет только на физическое состояние зависимого, но никак не затрагивает нарушения в других сферах: психической, социальной, духовной. Наркоман соглашается на лечение в «детоксе» и даже как будто принимает активное участие в выборе клиники. На самом деле его участие сводится к получению информации из своего окружения, подыскивается клиника, в которой детоксикацией все и ограничивается. Но этого категорически недостаточно. После детоксикации должна последовать реабилитация, в процессе которой наркозависимый учится жить без наркотика.
Стремясь в клинику, где нет реабилитационного подразделения, в которой не работают психологи-мотиваторы, а только врачи, которые помогут «переломаться» (облегчить тягостное физическое состояние в период абстиненции), зависимый рассчитывает укрепить позиции в глазах близких, а заодно, как они сами говорят, «сбить дозу».
«Сбить дозу». Так наркоманы называют процесс, при котором детоксикация приводит к тому, что для получения желаемого ощущения нужна меньшая доза наркотика, нежели та, к которой потребитель уже привык. Не секрет, что наркоман все время вынужден увеличивать дозу, поскольку организм «привыкает» и прежнего количества вещества становится недостаточно для получения желаемых ощущений. Если прибегнуть к помощи клиники, где под медицинским контролем пережить многодневную отмену наркотика, пройти через «ломку» под препаратами, купирующими боли и другие неприятные симптомы, то по прошествии нескольких дней можно получить искомые ощущения от существенно меньших доз. Многие это знают и ложатся в клиники именно затем, чтобы выйти и снова начать употреблять, но уже меньшее количество наркотика.
После такого недостаточного лечения практически все «пролеченные» возвращаются к приему наркотиков, поскольку ломку-то им преодолеть помогли, а управлять тягой к веществу, решать проблемы без него и жить в чистоте – не научили. И у наркомана появляется убойный аргумент: «врачи ничего не могут со мной поделать, у меня сложный случай» или «они вообще наркоманию лечить не умеют». Ими он будет пользоваться в процессе любых разговоров о лечении, попрекая, что вы только зря тратите время и деньги.
Даже, если настойчивые близкие снова добьются согласия на лечение, зависимый готов будет ехать в ту же клинику, поскольку «сбить дозу» в целом не возражает. Ну а для родственников это еще одна история провала.
На самом деле человек даже искренне может считать, что вы правы, что нужно лечение, но специфика наркотической зависимости (как, впрочем, и любой другой) такова, что, как только доходит до дела, сразу всплывает десяток поводов, чтобы все отложить.
Вспомните, что боретесь не против своего близкого человека. Нет! Вы вместе боретесь против наркотиков, и самому зависимому приходится со стороны зависимости выдерживать не менее, а более жесткий прессинг. В то время как сам человек управляет только сознательными мыслительными процессами (к примеру, действительно хочет лечиться), зависимость, управляя подсознанием, «сделает» все, чтобы избежать подобного развития событий.
Так что важно найти клинику и реабилитационный центр еще до всех разговоров, чтобы сразу, получив согласие, отправиться на лечение. Помните, чем больше времени теряете, тем менее успешным будет лечение и тем больше последствий (как физических, так и психических) невозможно будет устранить.
Кроме того, подобная заблаговременная подготовка позволит сразу разобраться, действительно ли на человека подействовали ваши доводы или вас просто пытаются провести и нужно использовать другие методы убеждения. Если зависимый искренне согласен (пусть даже и в эту конкретную минуту), он поддастся порыву и поедет в клинику. Если же имеет место «интрига», ложное согласие, предложение сразу отправиться в клинику вызовет массу отговорок, а затем не исключена и негативная, возможно, агрессивная реакция.
Во втором случае лучше сразу обратиться к следующему варианту.
Привлеките специалистов-мотиваторов
Это, пожалуй, наиболее эффективная стратегия, несмотря на то, что к ней, как правило, прибегают тогда, когда все другие способы уже испробованы.
Специалисты, которые могут вам помочь получить согласие близкого на лечение, используют приемы так называемой интервенции. Сам термин происходит от английского intervention – вторжение. Проводится интервенция квалифицированными психологами-мотиваторами, специально подготовленными и имеющими многолетний опыт работы.
Группы интервенции – это, как правило, самостоятельные структуры, привлекаемые клиниками и реабилитационными центрами для решения вопроса первичной мотивации. Если вы выбрали клинику и реабилитационный центр, поинтересуйтесь, готовы ли они предоставить контакты службы интервенции, с которой сотрудничают, обсудите возможное время приезда мотиваторов, узнайте подробности визита, еще раз расспросите, как подготовиться.
Как показывает практика, наиболее эффективных результатов добиваются специалисты, в прошлом сами проходившие лечение от зависимости. Они не понаслышке знают, что происходит в голове у пациента, понимают, как зависимость влияет на мышление, какие аргументы можно ожидать от пациента, какие доводы будут наиболее убедительными, какие методы – наиболее действенными и т. д.
Как работают психологи-мотиваторы? По договоренности приезжают к вам домой и уговаривают человека прямо сейчас отправиться на лечение. В процессе разговора задействуются различные приемы влияния: использование располагающих интонаций, определенных формулировок – ведь, как известно, мысль можно подать по-разному и получить диаметрально противоположные реакции.
Зачастую разговор начинается не напрямую с зависимым, а с его родственниками. Психолог может рассказывать о примерах из практики, о влиянии психоактивных препаратов. В какой-то момент зависимый неизбежно вовлекается в беседу – начинает либо спорить, либо, напротив, расспрашивать о влиянии наркотиков и т. д. Так или иначе, воздействие на психику пациента начинается с момента появления психолога и дальше усиливается по мере развития диалога.
Важно то, что от родственников, по сути, ничего не требуется – только впустить специалистов в дом и обеспечить им спокойные условия работы:
• Если в доме есть животные (особенно крупные собаки), изолировать их на время интервенции
• Проследить, чтобы рядом с зависимым не было оружия или предметов, которые можно использовать во время возможной агрессии (ножи, вилки и т. д.)
• Не совершать инициативных шагов, если психолог общается с зависимым
На последнем пункте хотелось бы остановиться подробнее. Иногда, искренне желая помочь, родственники начинают общаться с пациентом параллельно интервенту, но результаты, к сожалению, получаются строго обратными.
Во-первых, специалист использует вполне определенную стратегию, которая в том числе может базироваться на использовании диаметрально противоположных интонаций, на фразах, которые никто не ожидает услышать. Группа «интервентов» – это специалисты, которые буквально за несколько минут определяют наиболее действенную стратегию работы с пациентом. В свою очередь, родственники далеко не всегда понимают, как нужно разговаривать. Они ориентируются на свои знания о мышлении человека еще до того, как на него начали влиять психоактивные вещества. Даже в обычной жизни, не обладая навыками психолога, люди зачастую не могут правильно построить интонации и продуктивный диалог. Что уж говорить о критической ситуации, когда в действие вступают страхи, нервное напряжение и т. д.?
Во-вторых, даже если родственники придерживаются правильных интонаций и формулировок, человеку банально сложно воспринимать несколько голосов одновременно, особенно если интеллектуальная деятельность уже поражена наркотиками. Внимание рассеивается, и психологический эффект снижается в разы.
В-третьих, зависимый может просто начать манипулировать близкими в своих целях, как только почувствует, что дело идет к визиту в клинику. У него уже есть все проверенные инструменты. Изощренная манипуляция приведет к тому, что родственники встанут на его сторону.
В результате вмешательство может свести на нет всю работу специалиста или даже привести к обратным результатам – стойкому нежеланию пациента ехать куда бы то ни было.
Действительно, спокойствие сохранять непросто – особенно если используется стратегия психологического давления, в некоторых случаях особенно эффективная. Но вам нужно помнить главное – интервенция приводит к тому, что человек ложится в клинику в подавляющем большинстве случаев!
Конечно, вам не хочется, чтобы близкий пугался или нервничал, но это лишь кратковременное неудобство, которое подарит ему шанс на здоровую, счастливую жизнь.
Какие методы используют «интервенты»?
Как вы понимаете, подход зависит от пациента. Причем не только от его изначальной личности, но и от тех изменений, которые в его психике произвела зависимость. Если человек сохранил способность к интеллектуальной деятельности, обладая при этом достаточно высоким уровнем и способностью к логическому мышлению, как правило, проводится именно беседа с убеждением. Если человек изначально более склонен к подчиненному поведению (а подобных людей всегда проще сделать зависимыми, поэтому среди пациентов их очень много), то более эффективным оказывается правильно использованный приказной тон. То есть когда человека фактически ставят перед фактом: «Собирайся, одевайся, тебе нужно лечиться, поедешь в клинику».
! Важно понимать, что «интервенты» никогда не причиняют вреда пациенту – ни физического, ни морального. Поэтому не нужно бояться за безопасность близкого. Цель интервенции – убедить человека лечиться. Именно убедить. Ведь грош цена такому убеждению, которого хватит лишь на пару минут. Важно, чтобы пациент добровольно доехал до клиники и тем более подписал согласие на лечение. Получить согласие на лечение – тоже работа интервента. Все делается в соответствии с главным принципом медицины – «не навреди». Да, эпизодически приходится использовать, казалось бы, достаточно жесткие методы, но они не наносят вреда пациенту. «Интервенты» – опытные психологи, которые знают, какие приемы недопустимы в работе с человеком, тем более травмированным зависимостью.
Можно ли рекомендовать интервенцию сразу, еще до того как были опробованы другие способы? Определенно. Все, как всегда, упирается в фактор времени. Возможно, вы справитесь самостоятельно. А может, и нет. Но во втором случае потеряете те самые драгоценные дни, недели, месяцы, за которые ваш близкий уже мог бы начать путь к выздоровлению.
Помните, что каждый потерянный день – это смертельный риск: передозировка, криминальный исход или даже суицид под эффектом психоактивного вещества. В любом случае, это дополнительный урон физическому и психологическому здоровью.
Поэтому самый рациональный выбор – это провести первую беседу с зависимым и, если человек сразу не согласился прямо сейчас поехать в клинику, вызвать группу интервенции на ближайшее возможное время.
РЕЗЮМЕ:
1. Наркомана нельзя лечить принудительно. Закон этого не позволяет.
2. К моменту начала лечения нужно быть готовым: выбрать клинику и последующий реабилитационный центр, узнать условия госпитализации, возможно, съездить туда на консультацию с врачом или психологом. Где-то должны быть собраны вещи, которые зависимый возьмет с собой в больницу. О том, что нужно взять с собой, вам расскажут в самой клинике.
3. Получить согласие на прохождение лечения самостоятельно, пользуясь стратегией и тактическими приемами из этой главы. Но, если результат не достигнут, не отчаиваться.
4. Существуют специально подготовленные психологи-мотиваторы, которым в подавляющем большинстве случаев удается уговорить зависимого прямо сейчас собраться и поехать лечиться. О них подробно можно узнать в той клинике, которую вы выбрали.
5. Не медлите. Если не удается уговорить на визит в клинику самостоятельно, вызывайте психолога-мотиватора, не откладывая на завтра. Обратите внимание на то, чтобы в доме не находилась большая собака, а зависимому не было доступно какое-либо оружие. Мотиватор не сможет работать, если будет осознавать угрозу собственной жизни.
6. Не вмешивайтесь в работу психолога-мотиватора, как бы вам этого ни хотелось, если желаете получить результат.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Иногда мотивация со стороны специалистов может в буквальном смысле спасти человеку жизнь.
Как в истории Сергея. Он лежал в стационаре, проходил детокс. И настолько у человека не было мотивации, уже настолько изменилась психика, настолько тяга к наркотикам исказила его восприятие реальности, что он сбежал прямо в больничной одежде, полуголый, в тапочках и с подключичным катетером в шее. На дворе была ранняя весна, мороз.
Слава богу, его поймали, привезли уже в другую клинику, чтобы завершить детоксикацию. На счастье в этом стационаре нашлись специалисты, которые занимались мотивацией, и началась напряженная работа – изо дня в день с ним беседовали, подводили к решению пройти курс реабилитации.
И человек кардинальным образом поменял отношение к лечению. Принял решение пройти реабилитационную программу, начал выздоравливать. Прошел постреабилитационный курс, стал через некоторое время консультантом в центре, потом старшим консультантом. А теперь Сергей дорос до позиции директора реабилитационного центра. Срок чистоты – более шести лет. За плечами несколько десятков ребят, которым он теперь сам помог справиться с зависимостью.
Если бы тогда он не попал к мотиваторам, неизвестно, что было бы дальше, но счастливого конца у истории точно бы не было!
Начало пути: детоксикация
Первое, с чем сталкивается человек, решивший начать лечение от наркозависимости, – это клиника, медицинское учреждение, где ему нужно провести несколько дней. За это время будут устранены физические симптомы абстиненции (отмены наркотика), проведено обследование на предмет наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний, намечена тактика дальнейших действий.
Почему-то так сложилось, что этот период выздоровления зависимого принято называть детоксикацией.
Прежде чем говорить о начале лечения, давайте разберемся в самом термине «детоксикация». На первый взгляд это простое и понятное слово, объединяющее комплекс процедур по выведению токсинов из организма. Но суть в том, что в случае наркомании термин не совсем уместен.
Как мы уже упоминали, психоактивные вещества очень ненадолго задерживаются в крови, и как раз из-за этого их так сложно обнаружить. Буквально несколько дней (может быть, неделя) – и в организме ничего не остается.
Непосредственно детоксикация (или на сленге – «детокс») при лечении зависимости применяется крайне редко.
• Если пациента доставили при передозировке.
В этот момент в его крови действительно содержится большая, даже критическая концентрация опасных веществ, и скорейшее их выведение является одной из задач для сохранения жизни.
• Если зависимость сопряжена с алкоголизмом.
Около 25 % наркозависимых злоупотребляют алкоголем. И как раз при распаде алкоголя в организме накапливаются токсины, которые длительное время могут циркулировать по кровеносной системе. Впрочем, даже в случае алкоголизма к детоксикации прибегают, если пациента привозят в период запоя. В ином случае проще дождаться, когда организм сам переработает вредные вещества и выведет их естественным путем. Таким образом, значительно снизится нагрузка на жизненно важные системы.
• Если человек принимал препараты, которые длительное время не выводятся организмом.
Как правило, это медицинские наркотики или же токсичные вещества, которые после попадания в организм могут длительное время оставаться в крови и накапливаться в разных органах и тканях.
Итак, чаще всего (более чем в 50 % случаев) непосредственно детоксикация не нужна. При наркозависимости скорее можно говорить о необходимости восстановления нормальных функций организма – о купировании боли во время ломки, нормализации сна, настроения, влечений, о восполнении витаминов и питательных веществ, о поддержке функций сердечно-сосудистой, мочеполовой и других систем. Организм наркомана больше испытывает стресс от разбалансировки физических и психических процессов, чем страдает от неких остаточных токсинов, которые если и остаются, то в микродозах, фактически не оказывающих никакого влияния.
Почему же тогда врачи в диалоге с родственниками употребляют этот термин? Можно ли в данном случае говорить о некомпетентности? Вряд ли. Вопрос опять упирается в чрезвычайно низкий уровень информационной грамотности населения по проблемам как наркомании, так и медицины в целом.
Людям привычно слово «детоксикация», потому что оно регулярно употребляется в связи с алкоголизмом и по аналогии переносится и на наркозависимость. И чем проводить длинный курс лекций по патофизиологии в частности и медицине в целом, врачу проще сказать: «Мы проведем курс детоксикации, будут такие-то и такие-то процедуры, вот такой будет результат».
Понятно, что этот стереотип нужно ломать, и если врач видит, что пациент достаточно образован, чтобы принять иную терминологию, он к ней и обратится. Но пока, к сожалению, в 90 % случаев проще и эффективнее сказать «детоксикация». В практике любого нарколога достаточно примеров, когда говоришь: «Мы не будем делать детоксикацию, она тут не нужна», а люди сразу считают, что это шарлатанство. То есть «нет детоксикации – нет лечения» – вот один из самых распространенных стереотипов. При этом «капельница» считается неподготовленными людьми главным действующим лицом в «серьезном» лечении. И, если «капельницы не ставят», значит – не лечат.
При этом поставишь капельницу с витаминами – и все довольны. А основное лечение в это время идет не через систему для внутривенно-капельного вливания, а с помощью таблеток и простых внутримышечных инъекций (уколов). Витамины просто для поддержания организма, не более, а сама капельница нужна далеко не всегда.
Выбор методов первого этапа лечения зависит от множества факторов:
• Возраст пациента
• Употребляемые психоактивные вещества
• Срок зависимости
• Изначальное состояние здоровья (как физического, так и психического)
• Состояние пациента на момент начала лечения
Как правило, какие-либо «активные шаги» в виде серьезных интенсивных процедур требуются опийным наркоманам. Если же человек употребляет препарат, в основном вызывающий психическую зависимость (например, марихуану), ему зачастую не требуется первый этап лечения. То есть, конечно же, он должен пройти полное медицинское обследование, включая типовые анализы, чтобы не пропустить серьезные заболевания, но, в целом, может сразу направляться для прохождения следующего этапа выздоровления в реабилитационный центр. Тем более подобные организации тесно сотрудничают с квалифицированными врачами, зачастую даже имеют собственный штат специалистов, и зависимый может прямо в центре получить консультацию врача.
Методы, применяемые на первом этапе лечения
В целом первый этап проходит приблизительно одинаково во всех профильных медицинских учреждениях. Врачи в основном пользуются клиническими рекомендациями, разработанными ведущими специалистами отрасли, в которых подробно изложены медицинские процедуры и лекарственная терапия различных состояний, в которых зависимому может потребоваться медицинская помощь. Прежде всего активное лечение требуется опийному наркоману в состоянии абстиненции. Это крайне тяжело переносимое состояние, при котором необходимо активное медикаментозное вмешательство.
Для потребителей других психоактивных веществ существуют иные стратегии.
Обо всех методах можно сказать одно: это в основе своей – симптоматическое лечение. Устраняются те симптомы, которые возникают у наркозависимого, когда он лишается наркотика на длительное время. Врач заранее знает, каково будет состояние пациента, и подбирает терапию, исходя из известной ему динамики. Постоянное наблюдение позволяет оперативно вмешиваться и проводить коррекцию лечения при необходимости.
Второй важный момент в терапии зависимостей – выявление и лечение сопутствующих заболеваний. Наркоманы часто страдают заболеваниями внутренних органов и систем. Порой врачу приходится сталкиваться с гепатитами, перикардитами, тромбофлебитами, гнойными осложнениями. При этом не всегда сам наркоман осведомлен об имеющихся у него болезнях, и задача хорошей клиники – обнаружить скрытые или не замеченные ранее заболевания и начать правильное лечение.
Особую роль в подборе грамотной терапии играет наличие или отсутствие у зависимого сопутствующего психического расстройства. Довольно часто встречаются наркоманы, у которых зависимость сочетается с тяжелыми органическими психопатиями (нарушениями поведения из-за повреждений головного мозга), шизофренией, глубокими депрессиями, тревожными расстройствами. Именно поэтому важно, чтобы в клинике работали опытные психиатры, способные определить эти нарушения под «маской» симптомов зависимости.
И конечно, хороший врач всегда помнит, что зависимость довольно часто бывает смешанной: опиаты и стимуляторы, опиаты и спайсы, опиаты и алкоголь, спайсы и алкоголь. Вариантов сочетаний очень много, и поэтому, тщательно опрашивая больного и его родственников, специалист непременно обратит на это внимание и откорректирует назначения, исходя из полученных сведений.
Нет смысла перечислять стратегии лечения и писать о процедурах и лекарственных препаратах – их очень много. Остановимся лишь на некоторых, поскольку довольно часто про них спрашивают родственники зависимых.
• Плазмаферез – удаление плазмы крови, «загрязненной» патогенными компонентами. Плазма – это жидкая часть крови. В ней находятся кровяные клетки – эритроциты, которые переносят кислород; лейкоциты, которые защищают кровь от инфекций; тромбоциты, которые помогают крови свертываться и образовывать тромбы в случае повреждения сосудов. При плазмаферезе часть крови выводится из организма, фильтруется, при этом плазма с растворенными токсинами удаляется, а клетки крови растворяются в специальных медицинских растворах и возвращаются обратно в организм. Именно это лучше всего позволяет оперативно очистить кровь, то есть провести ту самую пресловутую детоксикацию.
• Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) – физиотерапевтическая процедура, проводимая с помощью лазера. При этом воздействие лазером на кровь происходит непосредственно в вене, в которую вводится одноразовый катетер. Процедура безопасна и в ряде случаев полезна. Основные заявленные эффекты: противовоспалительный, обезболивающий, улучшение иммунитета, положительное влияние на ключевые свойства крови, такие, например, как свертываемость. Ряд исследований показывает эффективность метода в комплексном лечении целого ряда заболеваний. ВЛОК оказывает весьма позитивное влияние и на пациентов.
• Ксенонтерапия – лечение с использованием медицинского газа ксенона, который подается пациенту в смеси с кислородом через маску специального дозирующего аппарата.
Ксенон применяется для коррекции неврологических, вегетативных, психических и поведенческих расстройств. Причем препарат показывает эффективность как непосредственно в периоде абстиненции, так и в постабстинентном периоде.
Важно отметить, что при ингаляционном применении препарата не оказывается негативного воздействия на дыхательную систему и гемодинамику.
На сегодняшний день ксенон является одним из наиболее эффективных препаратов при лечении множества расстройств, сопровождающих наркозависимость. Отмечены позитивное влияние на тяжесть болевых ощущений во время ломки, коррекция настроения и поведения, сна. Более того, на фоне ксенона удается использовать меньшие дозировки ряда необходимых лекарств, а это крайне важно для наших пациентов, поскольку снижает нагрузку на органы, выводящие метаболиты препаратов, ведь функции печени и почек у них, как правило, нарушены.
У данного метода, как и у любого другого, есть противопоказания, к которым, например, относится эпилепсия.
Одним из главных преимуществ этого медицинского газа является возможность применения психотерапии в состоянии ксенонового сна. В итоге все это позволяет существенно сократить общие сроки лечения.
Какие препараты используются в лечении
Это несколько групп препаратов, позволяющих купировать абстинентный синдром, а также нормализовать психическое и физическое состояние. Прежде всего врач обращает внимание на психическое состояние пациента, поэтому основной арсенал специалиста – психотропные препараты.
Основные группы психотропных лекарственных средств
• Антидепрессанты – используются для нормализации настроения, устранения тоски, тревоги, некоторые участвуют в нормализации сна, некоторые, наоборот, активизируют пациента. Конечно, такие препараты подбираются индивидуально в соответствии с выработанной тактикой лечения.
• Транквилизаторы и снотворные – используются для купирования тревоги и дисфорических проявлений (патологического тягостного недовольства), нормализации сна.
• Нейролептики – антипсихотические препараты, применяемые в основном у психически больных. Это группа очень разнообразна по своим эффектам. Ранее они достаточно широко применялись для якобы снижения патологического влечения к наркотику. Считалось, что именно они помогают наркоману справиться с «тягой». Исследования последних лет показали, что это не так. Применение нейролептиков в наркологической практике – до сих пор спорный момент. Ряд ученых, ссылаясь на международный опыт, говорит, что их вообще не нужно применять при лечении наркомании. Но препараты в арсенале врача остаются, поскольку могут применяться в иных целях. Например, снижать агрессию, удерживать от побега. Ведь важно достичь результата – вывести человека на путь отказа от наркотика. А в самом начале пути зависимые очень неустойчивы в своих решениях, в отношениях с окружающими, способны убежать, причинить вред себе и близким. И с этим нужно работать, в том числе применяя необходимые лекарственные препараты, в ряде случаев – нейролептики. Использовать их следует с особой осторожностью. Но волноваться не стоит, грамотный врач всегда подберет нужную дозировку и назначит корректоры, чтобы свести к минимуму побочные действия.
• Противосудорожные препараты (антиконвульсанты) – препараты, применяемые для лечения эпилепсии, препятствуют появлению припадков. В наркологии могут применяться как по своему прямому назначению (если есть угроза эпилептических приступов), так и для нормализации настроения. Дело в том, что некоторые антиконвульсанты обладают выраженной способностью выравнивать фон настроения: оно перестает колебаться, становится ровным. Поэтому такие препараты еще называют нормотимиками (нормирующими настроение).
• Ноотропы – используются для нормализации деятельности центральной нервной системы, улучшения переносимости других препаратов. Положительно влияют на память, внимание, мыслительную деятельность, улучшают мозговое кровообращение.
Обезболивающие
Отдельно следует выделить препараты-анальгетики (обезболивающие), которые используются в лечении опийного абстинентного синдрома, проще говоря, «ломки» у наркозависимого, принимавшего опиаты, например героин.
Во время ломки обычные «таблетки от головы» пациенту не помогают. Боли, которые он испытывает, настолько интенсивны, а устойчивость к лекарствам настолько высока, что требуются очень мощные обезболивающие средства. Обычно используются так называемые ненаркотические анальгетики. Но иногда требуются и препараты, относящиеся к группе опиоидных анальгетиков, подлежащие особому учету.
Другие лекарственные препараты
Круг их достаточно широк и определяется состоянием и сопутствующими заболеваниями пациента. В среднем в аптеке наркологической клиники можно обнаружить более сотни разнообразных лекарств. Это и препараты, влияющие на функции печени и почек, и так называемые «сердечные» препараты, витамины, антиоксиданты и многие другие группы.
Важно понимать, что лечение представляет собой не только купирование абстинентного синдрома и формирование отказа от психоактивных веществ, но и максимальную коррекцию всех последствий. Зачастую самым тяжелым и опасным является не сам абстинентный синдром, который, конечно, доставляет мучения, но, по сути, не смертелен. Гораздо страшнее изменения, которые происходят в организме и психике за время употребления наркотиков. И задача врачей и других специалистов – вернуть пациента к полноценной, максимально здоровой жизни. Еще на первом этапе следует начинать работу психологам-мотиваторам, которые должны ориентировать пациента на последующую реабилитацию и полный отказ от приема психоактивного вещества.
В ряде случаев полезна психотерапия, в результате которой можно существенно облегчить психическое состояние больного, помочь ему справиться с некритическими нарушениями психики.
Поэтому, даже если детоксикация действительно требуется, нельзя говорить о том, что данный комплекс методов является исчерпывающим. Первый этап должен включать все меры, необходимые для восстановления физического и психического здоровья пациента.
Мифы о детоксикации
Чем дольше в обществе «циркулирует» термин, тем больше он «обрастает» разнообразными домыслами и слухами. Среди наиболее распространенных мифов о детоксикации можно выделить четыре.
Детоксикация нужна всегда
Мы уже упоминали об этом.
Посмотрим, как «работает» наркотик: человек принимает психоактивное вещество, и пока оно находится в крови, испытывает, скажем так, удовольствие. Пойдет ли человек в этом состоянии в клинику? Вряд ли. Ему слишком хорошо – в этом состоянии даже уговорить лечиться практически невозможно, разве что специалист-интервент сможет это сделать, опираясь на приказы, поданные с особой интонацией.
Но вот эффект прошел, и у человека начинается абстинентный синдром, и начинается именно потому, что наркотика в крови уже нет, организм требует новую дозу.
Если не было употребления веществ, которые могут накапливаться в организме (токсичных препаратов), если не было употребления алкоголя, пациенту, в принципе, может не понадобиться детоксикация.
Детоксикация – это всегда капельница
На сегодняшний день существует множество эффективных методов выведения токсинов из организма. Некоторые мы уже перечислили, и, как вы могли убедиться, они далеко не исчерпываются «капельницами».
В каждом конкретном случае пациенту назначается именно тот способ, который позволит восстановить адекватное, здоровое состояние наиболее быстро и с минимальной нагрузкой на и так подорванные ресурсы организма.
Детоксикация «народными средствами»
До сих пор популярны такие меры, как «переломаться всухую», – то есть без врачей, просто дома. Как правило, этот способ приходит в голову не самим зависимым, а их родственникам, которые прибегают порой просто к чудовищным методам. Человека связывают, приковывают к батарее, запирают, чтобы лишить его возможности принимать наркотики.
В таком вот состоянии человек переживает абстинентный синдром – попросту говоря, «ломку». Длиться его мучения могут до недели. И действительно, непосредственно физическая боль за это время проходит.
Иногда применяют чудовищные методы так называемой «детоксикации народными средствами»: от различных травяных настоев до совсем уже экзотических процедур, типа бани с обмазыванием медом. Это совершенно недейственные и опасные подходы, не имеющие никаких научных оснований и подтверждений эффективности, а ряд процедур может быть опасен для здоровья.
Наркомания так не лечится. Еще раз проговорим: проблема в том, что человек принимает психоактивные вещества не только, чтобы избавиться от болей. У него вырабатывается психологическая зависимость, не менее, а иногда и куда более сильная, чем физическая.
Иными словами, человека продолжает тянуть к наркотикам и без соответствующей квалифицированной помощи он рано или поздно сорвется.
Кроме того, изоляция не решает проблем, вызванных употреблением психоактивных веществ. Заболевания органов и систем, а главное, проблемы с психикой: мышлением, памятью, вниманием – без помощи врачей ситуация может не только не выправиться, но, напротив, усугубиться.
И далеко не всегда результат заставляет себя ждать – если человек достаточно долго принимает наркотики или изначально имеет ослабленное здоровье, он может банально не выдержать самой «ломки» без медицинской помощи. Случаи летального исхода в результате «домашнего» лечения описаны.
«Игры в доктора» должны закончиться еще в детстве. Наркомания – это не то заболевание, при котором можно заниматься самолечением. Помните об этом и сразу обратитесь в клинику.
В «детоксе» пациент должен быть бодрым
В процессе купирования абстинентного опийного синдрома («ломки»), в процессе восстановления различных психических функций, таких, например, как сон, настроение, в клинике применяются различные препараты, которые могут угнетать функцию центральной нервной системы. Иногда – это тот эффект, которого хочет достигнуть врач в процессе лечения, например, при остром психомоторном возбуждении, когда пациент становится неуправляем и может причинить вред себе или окружающим. Иногда – это побочное действие некоторых необходимых лекарств.
И в первом и во втором случае волноваться не нужно, поскольку с такими эффектами, как смазанность, нечеткость речи, пошатывающаяся походка, сонливость, пациенты сталкиваются постоянно. Это – абсолютно нормально в процессе лечения, это даже хорошо и говорит о том, что лечение проходит правильно.
Иногда подобное состояние родственники могут наблюдать даже при выписке. И в этом тоже ничего страшного нет. Близкий заторможен и вял не потому, что «из него сделали овоща» по незнанию или недосмотру, а потому, что это осознанная врачебная тактика. Вы можете поинтересоваться у доктора, с чем связано состояние пациента, и получите внятный ответ.
В любом случае такие явления не опасны и быстро прекращаются после лечения.
Опасные методы детоксикации
Помимо хорошо отработанных и рекомендуемых методов детоксикации, существует несколько методик, к которым нужно относиться с чрезвычайной осторожностью. Эти методы, с одной стороны, новаторские, с другой – очень опасны, ввиду того что процент осложнений в результате их применения существенно выше, чем при традиционном «детоксе».
• Атропинокоматозная терапия (сокр. АКТ) – пациенту вводится вещество, вызывающее состояние управляемого галлюциноза. То есть человек начинает видеть то, чего нет, и слышать то, чего нет. При этом через галлюцинации пациент вполне способен воспринимать голос врача. В этом состоянии проводится внушение, которое якобы должно сформировать стойкое нежелание принимать наркотические препараты. В названии метода присутствует слово «кома». Но это не кома, конечно. Была бы она, человек ничего бы не воспринимал и никак бы не реагировал. Но термин устоялся.
Метод появился на заре наркологии, когда о реабилитации в нашей стране еще мало кто слышал. Врачи искали разные способы добиться того, чтобы наркозависимый, который выходит из стационара, не срывался, чтобы у него возникала так называемая аверсия (отторжение) к наркотику. В случае атропинокоматозной терапии действие предполагается двойное: с одной стороны, помощь при ломке, с другой – считается, что сделанное в процессе процедуры внушение создает желаемую аверсию.
Эффективность метода так и не была доказана, а вот побочных эффектов выявилось немало: от нарушений работы сердца и остановки дыхания до тяжелых психотических расстройств и необратимых изменений в головном мозге.
Конечно, у большинства пациентов так и не удалось добиться аверсии, а, значит, возвращение к употреблению наркотика после такого «детокса» вполне закономерно.
• Ультрабыстрая опийная детоксикация (сокр. УБОД) – ускоренное выведение опиатов и их продуктов из крови под наркозом в сочетании с применением препаратов, позволяющих избавиться от ломки за 6–8 часов.
Одна из наиболее соблазнительных методик, которая позволяет преодолеть ломку за несколько часов, вместо нескольких дней. Нередко к ней прибегали и прибегают зависимые, которым нужно экстренно «вырваться из порочного круга», чтобы пойти на работу, чтобы семья ничего не заподозрила и т. д. Такие пациенты совсем не ориентированы на последующее прохождение реабилитационной программы.
Проблема в том, что подобная нагрузка на организм часто оказывается критической. Были зафиксированы случаи летального исхода. Большинство психоактивных препаратов и так вызывают нарушения работы внутренних органов и систем, а дополнительный «удар» ускоренной детоксикацией просто становится «последней каплей».
Было также замечено, что в результате УБОД у наркоманов не снижается, а, напротив, усиливается «тяга». Это опять же делает бессмысленными все риски: да, «ломка» заканчивается быстро, если все прошло удачно, но без последующего реабилитационного периода наркопотребление продолжается. Так стоит ли рисковать, ставить на карту здоровье, чтобы на выходе получить то, с чего все началось?
Шарлатаны от наркологии
Когда мы сталкиваемся с проблемой, нам хочется решить ее как можно быстрее и проще. Причем чем сложнее ситуация, тем больше желание. Именно на этом, совершенно естественном, «механизме» человеческой психики и играют многочисленные мошенники, которые пытаются завлечь в свои сети испуганных, отчаявшихся родственников, стремящихся избавить от зависимости близкого человека.
Есть несколько простых признаков, которые помогут распознать фальшивые, а зачастую еще и вредные методы «лечения» наркомании.
1. Все сразу
«Чудо-метод», который излечивает от зависимости раз и навсегда, – главная приманка и самая большая ложь. Давайте подумаем логически – психоактивные вещества разрушают организм и психику человека постепенно, день за днем. Неужели же за один день и даже за одну неделю можно все исправить, вернуть утраченное здоровье, выправить отношения с близкими, научить человека справляться со своими проблемами без помощи наркотического костыля? Что же это должна быть за «волшебная таблетка», которая за один прием может восстановить и сердечно-сосудистую систему, и работу мозга и, главное, изменить желания и предпочтения человека? И если такое средство есть, то почему им не пользуются во всех больницах, вместо того, чтобы нанимать десятки разнообразных специалистов и тратить недели, а то и месяцы на каждого пациента?
С сожалением приходится признать суровую правду – восстановить всегда труднее, чем разрушить. И чем дольше человек принимает психоактивные вещества, тем дольше времени потребуется на лечение. И никаких чудо-методов, способных восстановить поврежденные организм, мышление, память, просто не существует.
2. Без побочных эффектов
Не существует лекарств, полностью лишенных побочных эффектов. И чем мощнее, чем эффективнее лекарство, чем тяжелее заболевание, с которым должен справиться препарат, тем больше побочных эффектов.
Почему так? Потому что человеческий организм – это сложная, сбалансированная система. И в работу этой системы невозможно вмешаться, ничего не нарушив. В любом случае что-то будет затронуто. Просто побочные эффекты апробированных и разрешенных методов и лекарственных препаратов заведомо менее опасны и травматичны, чем патология, для лечения которой они применяются. И тем не менее они всегда есть.
А мошенники готовы поклясться, что их зелье или метод вообще побочных эффектов не имеет. Это, понятно, ложь.
3. Стопроцентная гарантия излечения
Пока существуют заболевания, которые не в силах вылечить современная медицина, никто не сможет дать стопроцентную гарантию излечения. В ходе употребления наркотиков нередко возникают сопутствующие заболевания, которые можно только удержать в определенных рамках, но, увы, вылечить уже невозможно (например, шизофрения, ВИЧ-инфекция).
Более того, существует множество параметров, влияющих на эффективность лечения: ресурсы организма, индивидуальная реакция пациента на лекарства и т. д. Даже врачи с многолетним опытом всегда допускают, что лечение может оказаться не настолько действенным, как предполагалось, и нужно будет проводить дополнительные исследования, подбирать индивидуальную методику.
Сто процентов гарантии – лакмусовая бумажка шарлатанства.
4. Всеобщий заговор
На резонный вопрос «Если ваш метод так эффективен, почему же им не пользуются в других клиниках?» – мошенники любят развивать некую теорию заговора. В ход идут самые нелепые идеи: от коммерческого сговора медицинских учреждений до масонских планов по истреблению нации.
Но давайте на минуточку представим, что чудо-средство, позволяющее гарантированно вылечить человека от наркозависимости за короткий срок и полностью вернуть ему здоровье, все-таки найдено. Очевидно, родственники больного будут готовы выложить огромные деньги.
В условиях постоянной конкуренции клиники, напротив, стараются как можно быстрее брать на вооружение самые современные методы, потому что это выгодно и целесообразно – чем эффективнее лечение, тем больше пациентов. Что же до стоимости, поверьте, и среди обеспеченных людей достаточно наркозависимых, поэтому нашлись бы и те, кто способен потратить миллионы на свое лечение, лишь бы был «чудо-способ».
Так что все эти теории заговоров не более чем попытка придать значимости своему методу в расчете на то, что человек, находящийся в постоянном стрессе и страхе за жизнь и здоровье близкого человека, готов поверить в любую чушь, которая сможет его успокоить. К сожалению, так чаще всего и бывает.
Еще один интересный нюанс, который выдает мошенников от медицины. В последнее время стало модным (по-другому не скажешь) подтверждать эффективность любого метода наличием патента. Действительно, еще со времен СССР в менталитете русского человека прочно укоренилось: «без бумажки ты – букашка». К тому же, среднестатистический человек плохо понимает разницу между патентами, сертификатами, лицензиями и прочей впечатляющей документацией.
Так вот, патент – это всего лишь документ, подтверждающий, что данный метод изобретен, допустим, Иваном Ивановым. Патент не является гарантией эффективности, безопасности и т. д. Задача патентного бюро только отсеять плагиат и совсем уж откровенный бред. Но в обязанности проверяющих не входит проверка общей результативности методов лечения или оценка побочных эффектов. При этом патенты на различную псевдонаучную, а иногда и опасную чушь плодятся в таком количестве, что Минздрав просто был бы не в состоянии успеть за всеми существующими шарлатанами, даже если бы в его обязанность входила экспертная оценка патентов на медицинскую тему.
Поэтому, когда «владелец патентованного метода» гордо продемонстрирует вам пусть и подлинный документ, задумайтесь, не заметили ли вы одного из пунктов, указывающих на обман, а еще лучше попросите описать метод и проконсультируйтесь у знакомого врача.
Чтобы немного упростить задачу распознавания шарлатанов, мы перечислим основные методы, которыми пользуются недобросовестные любители наживы (назвать их врачами язык не поворачивается):
• Оперативное вмешательство – удаление так называемого центра удовольствия хирургическим методом.
Авторы метода предполагают, что зависимость от наркотика формируется именно в данной области, поэтому ее удаление позволяет устранить само желание принимать психоактивные вещества. Но, во-первых, механизм формирования зависимости гораздо сложнее – сюда вовлечена деятельность не только «некоторых отделов» мозга, но и неизвестные нам пока механизмы формирования сложного поведения, влечений, предпочтений.
Кроме того, любое хирургическое вмешательство в области мозга является потенциально опасным и имеет высокий риск провокации психоорганического синдрома (совокупность симптомов, включающих в себя нарушения памяти, снижение интеллекта и формирование эмоциональной неустойчивости).
• Лечение на дому – может «выполняться» самыми различными методами: от медикаментозных до так называемых «аппаратных». Под видом оборудования, как правило, привозится какая-нибудь «штуковина с лампочками», лекарства в лучшем случае используются те же, что и для лечения алкоголиков.
Соблазн провести лечение на дому велик. Нет страха огласки, да и близкий человек всегда под присмотром. Но подобные мероприятия имеют все шансы закончиться летальным исходом: из-за применения недорогих препаратов, набор которых у выездного врача ограничен, из-за мероприятий, которые требуют подстраховки со стороны реаниматологов, и т. д.
Вариантов может быть множество – организм зависимого человека настолько стремительно разрушается, что любые манипуляции требуют строго медицинского надзора и наличия «под рукой» огромного спектра лекарственных препаратов и специального оборудования.
Ситуация с лечением на дому настолько серьезна, что Минздрав даже выпустил несколько отдельных постановлений, напрямую запрещающих проведение подобных мероприятий.
Не стоит забывать, что, даже если наркоман переживет ломку дома, это не избавит его от «тяги», и возвращение к прежнему образу жизни – лишь вопрос не очень продолжительного времени.
• Гипноз – метод, до сих пор пользующийся фантастической популярностью. Пациента вводят в состояние гипнотического транса и проводят внушение, которое якобы должно произвести лечебный эффект.
Обещания могут быть самыми различными: от снижения зависимости до полного оздоровления (как физического, так и психического). Нужно ли говорить, что это полная профанация? Увы, нужно.
Да, возможности человеческого организма до сих пор до конца не изучены, и эффект плацебо периодически показывает значительные результаты. Но изменения в организме, вызываемые наркозависимостью, настолько обширны и серьезны, что никакое внушение не поможет человеку отказаться от наркотика и, тем более, выздороветь.
Кроме того, люди, предлагающие подобное лечение, чаще всего сами не являются гипнотерапевтами. Да, они умеют вводить человека в транс (это, к слову, не так сложно), а дальше что-то ему говорят. Как это отразиться на психике пациента – неизвестно. В принципе, неспециалисту нельзя применять гипнотические техники (можно нанести непоправимый ущерб). Что уж говорить о работе с наркозависимыми, как правило, весьма далекими от понятия «психически здоровый»?
Важно различать обещания вылечить наркоманию гипнозом и методики специалистов гипнотерапевтов, работающих в реабилитационных центрах. Как метод, именно в рамках реабилитации после проведения первичных этапов лечения, гипнотерапия весьма эффективна для выявления изначальных причин приема наркотиков и формирования так называемой «привычки к отказу».
Подобные мероприятия проводятся именно в реабилитационных центрах и только в качестве вспомогательной меры, но ни в коем случае не в виде основного метода лечения.
• Кодирование. Некоторые недобросовестные «наркологи» предлагают «кодирование наркомании» по аналогии с алкоголиками. Заявляется, что «будет сделан укол», после которого употребление наркотика вызовет неприятные ощущения и ухудшение самочувствия. Это неправда. Таких препаратов не существует.
В ряде случаев под ярлыком «кодирование наркомании» могут предложить введение так называемого «блокатора опиатных рецепторов» – вещества, которое, пока находится в организме, препятствует получению ощущения эйфории. Такая методика имеет право на существование, но в ней больше минусов, чем плюсов.
Во-первых, блокатор действует недолго и выводится из организма через несколько недель. Во-вторых, наркоманы, не получая желаемого эффекта, могут попытаться «пробить» действие блокатора, повышая дозу вплоть до критической, способной привести к смерти. В-третьих, и это главное – способ никак не формирует навыки трезвой жизни, не решает ровным счетом никаких проблем, а значит – срыв будет неизбежен.
• Народные методы – от разнообразных отваров и протирок до обещаний вылечить наркоманию с помощью колдовства.
Мы не хотим подвергать сомнению чьи бы то ни было убеждения, но опять же приходится признать, что до сих пор не известно ни одного случая излечения наркомании с помощью какой-нибудь «потомственной знахарки в двадцать пятом поколении» или отвара из «семи трав».
Зато вокруг множество примеров того, как, обращаясь к подобным «магическим шарлатанам», люди тратили огромные средства, а главное – упускали время, когда настоящие специалисты могли бы помочь человеку восстановиться. Иногда случалось, что в результате на приеме у врача уже было невозможно помочь. В силах современной медицины было только поддержание человека на каком-то более-менее стабильном уровне, в состоянии инвалидности и при огромных финансовых затратах со стороны родственников.
В Интернете можно подробно прочитать о шарлатанских методах и способах определения «нечистоплотных» целителей. Есть неравнодушные специалисты, которые, например, активно занимаются разработкой «Энциклопедии шарлатанства» и других полезных ресурсов, так необходимых в наш просвещенный век многим заблудшим людям.
РЕЗЮМЕ:
1. Детоксикация, то есть буквально – выведение из организма токсических веществ, при лечении наркомании часто не требуется.
2. Если наркомана лечат без применения «капельниц» – это нормально. Если у пациента во время лечения спутанная речь, шаткая походка, сонливость и вялость – это нормально.
3. На дому наркоманию лечить нельзя – это неэффективно и запрещено законом.
4. «Кодирование» при наркомании неэффективно.
5. Шарлатанство в наркологии довольно широко распространено, но распознать недобросовестных целителей можно по ряду типичных признаков.
Медицинский подход – достаточно ли?
Долгое время в лечении наркомании использовался только медицинский подход – в лучшем случае, организм пациента приводили в порядок, излечивали появившиеся сопутствующие заболевания и отпускали с чистой совестью.
Но многолетний опыт показывает, что этого далеко не достаточно. На самом деле, роль врачей в выздоровлении зависимого весьма ограничена и значима только в самом начале пути – на первом этапе, когда происходит борьба непосредственно за физическое здоровье человека.
Более того, длительное использование только медикаментозного лечения делало наркологию самой депрессивной отраслью медицины. Пациенты постоянно срывались. Безумное число шарлатанов спекулировали на отчаянии родственников, вытягивая из них деньги и обещая «гарантированное исцеление». Путь к наиболее эффективным методикам полноценного лечения – к необходимости реабилитации – выстлан тысячами человеческих судеб.
Долгое время врачи не придавали значения реабилитации в лечении зависимости. Именно в это время разрабатывались и апробировались методики, которые впоследствии были признаны очень опасными, когда риск превалирует над результатом.
И только теперь медицина признает, что в работе с зависимым должны принимать участие не только наркологи и врачи, восстанавливающие физическое здоровье, но и другие специалисты, призванные восстановить здоровую психику и личность человека: психологи, социальные работники, консультанты. Сегодня наркология начинает исповедовать мультидисциплинарный подход.
Какие специалисты работают в наркологии
Попробуем разобраться, чем отличаются друг от друга психиатр, психолог, клинический психолог, психотерапевт и нарколог. Очень часто люди этих специалистов путают.
• Психиатр – это врач, который отучился в медицинском институте на врача общей практики, а потом не менее двух лет специализировался по психиатрии. То есть он умеет диагностировать и лечить психические болезни. Лечит психиатр – лекарствами.
• Психолог – это специалист широкого профиля, который изучал психологию и все ее широкие аспекты. С зависимыми работают, получив при этом дополнительную подготовку по работе с такими людьми, а также наработавшие немалый опыт в качестве консультантов. Добавим, что лечить психолог не имеет права.
• Клинический психолог – психолог, который прошел дополнительную переподготовку для работы с психически больными. Лечить он их не может (лечит только врач), но может их обследовать на предмет степени тяжести тех или иных нарушений в психической сфере, чем обычно сильно помогает психиатру.
• Психотерапевт – им может быть как психолог, так и психиатр. Это специалист, помогающий «словом». Простой обыватель обычно представляет себе эдакого внимательного интеллигента, который слушает разговоры своего клиента, изредка что-то записывая в блокнот. Этот образ недалек от истины, но внешняя атрибутика процесса – не главное. Главное – в сути методик и техник, которые применяет психотерапевт, чтобы оказать клиенту помощь.
• Нарколог – это врач, который так же, как и психиатр, отучился в медицинском институте, но потом не обязательно специализировался по психиатрии. Он мог сначала быть, например, врачом реаниматологом или токсикологом, а лишь потом пройти курсы повышения квалификации по наркологии и получить право работать с зависимыми. Впрочем, психиатры среди наркологов встречаются чаще всего.
• Консультант (специалист по зависимостям от психоактивных веществ) – как правило, зависимый с большим сроком чистоты (трезвости) и личным опытом прохождения реабилитационной программы. Дополнительно, имеет подготовку на специализированных курсах. Последнее, впрочем, не всегда встречается. Очень часто бывает, что консультанты получают психологическое образование и становятся очень сильными психологами.
Как видно, подход к наркомании – мультидисциплинарный, и в работе с зависимыми востребованы специалисты из разных областей. Значимость каждого из них меняется в зависимости от этапа лечения.
Реабилитация как продолжение лечения
Многие далекие от наркологии люди, да и некоторые специалисты-наркологи тоже все еще продолжают относиться к реабилитации как к вспомогательному инструменту. Крайне печально и то, что некоторыми родителями наших пациентов этот «институт» воспринимается как «палочка-выручалочка» для слабаков. Мол, «не можешь сам справиться, вот и идешь за помощью к психологам».
На самом деле это не так. Мало просто восстановить организм. Ведь изначально ни у одного человека нет именно физической необходимости в употреблении наркотика. Все зарождается в голове, это чисто психологическая проблема. Важно понять, почему в принципе пациент начал употреблять наркотики, осознавал ли он последствия или изначально все было «сдобрено» незнанием.
Может быть, человек просто не осознавал последствия, надеялся, что именно с ним все обойдется. Хотя принцип «это случится с кем угодно, только не со мной» уже сам по себе представляет достаточно обширный фронт работ для психолога.
Может быть, человек легко внушаем и просто поддался чужому влиянию – с этим тоже нужно бороться, иначе, едва вернувшись домой, он снова превратиться в наркомана буквально за считаные дни, как только натолкнется на старую компанию. А наркодилеры клиентов, как правило, терять не намерены и зачастую после выхода зависимого из клиники начинают заново склонять его к употреблению.
Может быть, зависимость (а точнее, прием первых доз) была вызвана личными психологическими проблемами: комплексами, разочарованием, депрессивным состоянием.
Если причина, толкнувшая человека к употреблению наркотиков, так и не будет устранена, пройдет совсем немного времени, и он снова вернется к тому, с чем начал бороться.
Но даже если у пациента нет субъективных причин для употребления психоактивных веществ, нужно помнить, что наркомания, как заболевание, формирует и психологическую привычку к приему наркотика. Привычку, которая не проходит просто так, от терапевтических мер и процедур, направленных на исцеление тела. Теперь необходимо сформировать так называемую «привычку к отказу».
Мысли о наркотиках будут еще какое-то время (и, возможно, достаточно долго) преследовать, искушая снова попробовать «всего один раз». Они будут подкрепляться чувством вины, неуверенности; эмоциями, которые неизбежно возникают, когда зависимые осознают, что натворили со своей жизнью, в какое положение поставили себя и семью, какому риску подвергли близких людей.
Если лечение психических и физических расстройств выполняет именно «оздоровительную» функцию, то реабилитационные центры помогают вернуться к полноценной жизни и навсегда отказаться от наркотиков.
Кто работает в реабилитационном центре
• Психологи.
Они помогают понять, что именно толкнуло к употреблению наркотиков. Как говорили древние, «предупрежденный вооружен». Осознавая мотивы, гораздо проще выработать «привычку к отказу».
Психолог помогает разобраться в самом себе, избавиться от проблем, стабилизировать внутреннее состояние, стать гармоничной, цельной личностью, которой не нужны никакие стимуляторы, чтобы продолжать жить и получать от жизни удовольствие, преодолевать возникающие препятствия вместо того, чтобы уходить от них в наркотические грезы.
Вторая (но не менее важная) часть помощи – адаптация. За время зависимости человек настолько отстраняется от социума, что ему невероятно сложно вернуться в обычную среду. Кого-то терзает страх, что окружающие сразу поймут, что он бывший наркоман, и отвернуться. Кто-то просто не понимает, как найти новое место в жизни, если обучение уже брошено, карьера разрушена, кругом долги…
! Если зависимый не получает психологическую поддержку, он может не просто столкнуться с проблемами адаптации к привычной жизни или снова вернуться к употреблению. Постоянные страхи могут довести его до депрессии и, в самых серьезных случаях, даже до самоубийства. Несмотря на то что с отказом жизнь только начинается, зависимым долгое время может, наоборот, казаться, что все кончено – потери невосполнимы, дружбы и любви уже не будет, никогда не будет радости, счастья, полноценной жизни. Только помощь квалифицированного психолога поможет избежать печального исхода.
В период приема психоактивных препаратов человек постепенно теряет возможность хотеть и саму потребность в других желаниях, кроме новой дозы. К началу реабилитации он стоит на перепутье: он не хочет наркотик, но нет пока ни других желаний, ни планов. Задача психолога – помочь заново «нарисовать» картину будущей жизни: наметить цели и планы, для начала на ближайшее будущее, найти то, что будет интересно, определить ориентиры и моральные ценности.
• Консультанты.
Практически всегда это зависимые, которые прошли в свое время такой же путь и теперь помогают другим людям отказаться. Не нужно бояться того, что они когда-то сами употребляли наркотики, – напротив, зачастую именно такие люди обладают наибольшей компетенцией. Знают, какие сомнения могут терзать подопечного, с какими искушениями придется столкнуться, помогают предотвратить проблему еще до ее появления.
Консультанты следят за поведением подопечных и помогают психологам получить дополнительную информацию, потому что обычно человек сам за собой не замечает множество значимых вещей. Они поддерживают на пути реабилитации, рассказывают примеры из своей жизни и жизни других подопечных, помогая зависимому понять, что он такой не один. Множество людей уже прошли этот путь, и успешно, а значит, у него тоже все получится.
Что еще важнее, консультант учит вырабатывать непосредственную «привычку к отказу от наркотика», учит, что делать, если снова появилось желание, если уговаривают на этот «всего один разочек». Подсказывает какие-то простые, но практические приемы – как отвлечься, как перестать думать о наркотиках, как побороть страх и неуверенность.
Ну и, что немаловажно, консультанты – это те люди, которые находятся с зависимыми в центрах круглосуточно, обеспечивая непрерывность процесса и соблюдение четких правил.
• Члены группы.
Одним из самых эффективных способов психологической помощи является групповая терапия. Поэтому можно сказать, что члены реабилитационной группы, такие же зависимые, являются «специалистами», которые помогают подопечным.
Если психологи и консультанты внутренне ощущаются как «старшие», которые объясняют, наставляют, проверяют, члены группы воспринимаются как равные – с кем можно максимально искренне поделиться проблемой и знать, что тебя понимают, потому что уже сталкивались с подобным или прямо сейчас переживают такие же ощущения, крутят в голове такие мысли.
В группах у разных людей – разные сроки чистоты (так наркоманы называют трезвость), разные навыки чистой жизни, разные личности. Это помогает новичкам надеяться на успех, поскольку пример динамики выздоровления всегда перед глазами.
Помимо центров (в которых человек живет все время лечения) существует и амбулаторная реабилитация. Когда пациент уже вернулся к нормальной жизни, но чувствует, что ему все еще нужна поддержка, он может периодически посещать группы или психолога, чтобы просто выговориться, сбросить нервное напряжение, отработать проблемы чистой жизни, получить поддержку, закрепить усвоенное в реабилитационной программе.
Но этот «инструмент» не начальный, а весьма отдаленный. Основное же лечение, а точнее – реабилитационную помощь, основную гарантию «чистой» жизни, зависимые получают именно в центрах, где проживают постоянно.
Продолжение пути: реабилитация
История реабилитации наркозависимых
Первым реабилитационным «движением» наркозависимых стало сообщество «Анонимные Наркоманы» (АН), сформировавшееся в середине XX века на базе более раннего движения «Анонимных Алкоголиков».
Официальная история сообщества отсчитывается от 1953 года, когда было проведено первое собрание. Поначалу реакция общества была настороженной, даже негативной. И это закономерно – людей пугала идея собрания тех, кто совсем недавно употреблял психотропные препараты и принадлежал сильно криминализованному миру. Казалось бы, что они могут обсуждать? Наркотики? В глазах людей неосведомленных это скорее смахивало на секту или потенциальный притон. И только со временем АН не только завоевали положительную репутацию, но и распространились практически по всему миру.
На сегодняшний день подобные собрания проводятся более чем в 100 странах мира.
Ключевые особенности сообщества:
• Добровольность
• Открытость
• Принятие
Туда может прийти любой человек. Нет никаких списков или отчетов, никаких ограничений по гендерному, национальному, расовому, этническому, религиозному, социальному или иному признаку. Все, что нужно, – желание бросить употребление наркотиков и принятие общих правил.
Главный принцип движения АН – выздоравливающие зависимые помогают новичкам, которые только пришли.
Это уникальная идея, не имеющая аналогов. Впервые квалификации врачей был противопоставлен личный опыт, личная вовлеченность, межличностное взаимодействие людей, которые действительно в состоянии понять друг друга.
Да, безусловно, зависимому необходима психологическая и психиатрическая помощь, но обычному специалисту, даже опытному, крайне сложно, даже практически невозможно понять, что испытывает наркоман, какие сомнения и страхи обуревают его после отказа от психоактивных веществ. Кроме того, у многих формируется отторжение «квалифицированного медицинского мнения» по принципу «да что они могут знать».
С этой позиции взаимная поддержка зависимых является мощным эффективным средством удержать человека от дальнейшего употребления наркотиков. Прежде всего, потому что член сообщества видит живое доказательство, что можно избавиться от тяги к психоактивным веществам, справиться со своей зависимостью и обрести нормальную, полноценную жизнь. С ним общаются люди, которые уже прошли через все, что ему только предстоит. Они отвечают на вопросы, помогают развеять сомнения, но главное – служат примером.
Важно различать программу и идеологию. Если программа – это четкая методика выздоровления, то идеология – это комплекс морально-нравственных ориентиров, на основе которых как раз и может быть разработана программа.
Сегодня многие центры практикуют «смешанный подход», набирая в штат психологов и психиатров, в том числе из людей, избавившихся от зависимости и прошедших соответствующее обучение для получения необходимой квалификации, чтобы помогать другим.
Программа «Анонимных Наркоманов» построена на адаптации изначальной идеологии «Анонимных Алкоголиков» – «12 шагов».
Фактически 12 шагов – это 12 тезисов, которые необходимо принять и последовательно претворить в жизнь, чтобы вернуться в социум.
Наибольшее значение имеют первые три:
1. Признать, что ты оказался бессилен перед таким заболеванием, как зависимость, и потерял контроль над собой.
2. Признать, что только Сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть здравомыслие.
3. Принять решение препоручить свою волю и жизнь заботе Всевышнего, как ты его понимаешь.
На первый взгляд «шаги» кажутся какой-то не совсем светской идеологией. Кто-то может увидеть созвучие религиозному мировоззрению, кто-то может расценить как призыв к слабости, кто-то вообще не понимает. Довольно часто приходится слышать такое суждение: это – неадаптированный зарубежный подход и для России и нашего населения не подходит. У столкнувшегося с «шагами» впервые действительно возникает много вопросов, а иногда и отторжение. Однако тезисы прямо созвучны прагматичному медицинскому подходу и универсальной, без привязки к национальному менталитету, психологии выздоровления.
Что такое признать бессилие перед заболеванием? Это значит, не просто заявить – «наркотики сильнее меня» в присутствии свидетелей. Это значит, сознательно преодолеть один главный симптом зависимости, который препятствует лечению, – анозогнозию, отрицание самой болезни, которое встречается у подавляющего числа наркозависимых. Прохождение первого шага позволяет полностью избавиться от отрицания болезни и потерь, которые она вызвала; дает возможность признаться самому себе, что употребление наркотика вышло из-под контроля и полностью управляет жизнью.
Второй шаг – это отказ от попыток самолечения и утопических идей контроля. Человек, сделавший этот шаг, учится обращаться за помощью: близких, специалистов, собратьев по выздоровлению. Этот шаг дает мощный ресурс на будущее. Ты можешь столкнуться с внезапно возникшей тягой, семейными и жизненными проблемами, физическим недугом в любой момент. Все это раньше решал наркотик. Теперь ты знаешь, кто и где тебе поможет, и сделает это лучше.
Третий шаг хорошо выражается старой мудростью – «дорогу осилит идущий». Нужно каждый день постоянно двигаться в направлении излечения. Нельзя поддаваться отчаянию, останавливаться, нужно постоянно что-то делать, чтобы вернуться к нормальной жизни и победить болезнь: соблюдать режим, рекомендации, выполнять задания и так далее. Это постоянное движение в правильном направлении, вектор, которого держатся все выздоравливающие. Следуя этому направлению, доверившись ему, зависимый в разы повышает шансы на успех.
В традиционных группах АН считается, что эти три шага – залог трезвости. Важно только четко понимать, что шаги действительно пройдены. Пройти шаг – это выполнить определенные задания, которые должен принять либо психолог, либо консультант, под патронатом которого лечится зависимый. После того как приняты задания первых трех шагов, можно говорить о возможном завершении стационарной фазы реабилитации, в которой человек, как правило, пребывает изолированно от социума. С этого момента он может жить дома, постепенно восстанавливая здоровое социальное окружение, периодически посещая групповые и/или индивидуальные занятия в рамках уже так называемой постреабилитационной программы.
Однако опыт показывает, что традиционно понимаемых критериев прохождения шагов в ряде случаев недостаточно. Поэтому в наиболее прогрессивных центрах разработаны собственные критерии, которые позволяют оценивать готовность пациента к завершению стационарной программы реабилитации. Такой комплексный подход к оценке позволяет уверенно возвращать зависимого в социум с минимальными рисками срыва.
Самым важным в «12 шагах» считается так называемое «духовное пробуждение». Это не какой-то религиозный или философский термин. «Анонимные Наркоманы» не являются религиозной организацией, и каждый из членов сообщества волен исповедовать любые религиозные или философские убеждения.
«Духовное пробуждение» – это совершенно практическое понятие, которое базируется на представлении, что воздействие наркотиков погружает личность человека в некое подобие сна – лишает его психологической, социальной и духовной воли. Пробуждение, в свою очередь, наступает, когда реабилитант приходит в себя и открытыми глазами смотрит на случившуюся в жизни трагедию, на сопутствовавшие ей события, на дальнейшую жизнь. Он перестает заниматься самооправданием и самообманом, обретает способность адекватно воспринимать и оценивать окружающую действительность.
«12 шагов» – это религиозная секта?
В этих положениях неоднократно упоминается Всевышний, и это периодически приводит к тому, что движение связывают с сектантством. Но есть огромное количество признаков, по которым понятно, что это не так.
В секте всегда существует лидер, за которым закреплен непререкаемый авторитет и безграничная власть над членами группы, – фактически его воспринимают как божественное воплощение того, кто может карать и миловать по своему усмотрению. Идеология «12 шагов» построена исключительно на равенстве всех участников, независимо от того, на каком этапе реабилитации они находятся. Их объединяет общая проблема (зависимость) и желание излечиться.
Все секты так или иначе направлены на подчинение членов группы «единой воле» и в 90 % случаев требуют от участников отказа от имущества в пользу лидера или верхушки секты или, как минимум, существенных регулярных взносов. «Анонимные Наркоманы» не заставляют зависимых брать на себя какие-либо материальные обязательства. Сообщество существует исключительно благодаря благотворительности и добровольным вкладам (к которым никого не подталкивают).
И наконец, самое главное отличие: секта стремится уничтожить личность в человеке – отучить его принимать самостоятельные решения, прервать контакты с окружающим миром, полностью погрузиться в жизнь узкой группы «избранных».
«Анонимные Наркоманы» преследуют строго противоположные цели. Они учат мыслить самостоятельно, принимать решения и нести за них ответственность. АН стремятся к тому, чтобы человек восстановил отношения с близкими, а конечная цель – вернуть зависимого в нормальную жизнь. То есть в идеале он должен оставить сообщество и иметь в себе и силы, и волю, чтобы продолжать «жить в чистоте» без собраний, как самостоятельный человек.
Да, безусловно, существуют секты, которые маскируются под реабилитационные сообщества, и проблема настолько актуальна, что мы решили посвятить ей отдельную главу. Но абсолютно точно можно сказать, что сообщество «Анонимных Наркоманов» и идеология «12 шагов» к сектантским движениям не относятся.
«12 шагов» – религиозная идеология?
Не менее распространено заблуждение, что это идеология, которая подходит исключительно людям религиозным. Но важно понимать, что образ Всевышнего в двенадцати шагах легко заменяется любой другой «Высшей силой» – родственниками, специалистами реабилитационного центра. Во время лечения зависимому необходим этот «Высший ориентир», на который он может полностью положиться, довериться ему. Именно принцип доверия лежит в основе программы. Он позволяет человеку обрести опору, а следом – и заново раскрыть собственный потенциал.
«12 шагов» позволяют избавиться от зависимости людям самых различных вероисповеданий и людям, в принципе не склонным к исповеданию какой бы то ни было религии. Эта идеология основана на постулатах, равно признаваемых всеми религиями, агностиками, даже атеистами, и не противоречит ни моральным нормам, ни общепринятым ценностям.
Согласно приказу Минздрава РФ № 373 от 17.12.1997 года, идеология «12 шагов» входит в обязательную программу повышения квалификации для всех специалистов, работающих в наркологических реабилитационных центрах.
Не осуждает ее и русское православное духовенство – более того, нередко собрания «Анонимных Наркоманов» проходят именно в православных храмах, а рекомендации по реабилитации, одобренные православной церковью, содержат задания из «12 шагов».
Одним из ярких примеров интернациональности и универсальности идеологии «12 шагов» является тот факт, что Иран (страна, в корне отличающаяся по менталитету от США и Европы) занимает второе место в мире после США по количеству групп самопомощи международного движения «Анонимные Наркоманы».
«12 шагов» – это западная идеология, чуждая российскому менталитету
Последнее, но не менее стойкое заблуждение, основано на том, что изначально идеология была разработана в США. Однако она не имеет никакой привязки к национальным или политическим особенностям. Как мы уже говорили, основой являются ценности и нормы, принятые во всем мире.
Это подтверждает и практика: только на сегодняшний день в России, используя идеологию «12 шагов», успешно работают более 500 реабилитационных центров, и еще больше эффективных групп в той или иной мере основывают свои модели на этих базовых положениях.
На их основе были разработаны наиболее эффективные, действующие во всем мире модели реабилитации наркозависимых.
Современные модели реабилитации
Каждый человек индивидуален и уникален. Именно поэтому нельзя выделить какую-то единственную модель реабилитации и объявить ее самой лучшей. По крайней мере, пока это не представляется возможным. В зависимости от личностных черт пациента, его изначального социального окружения и общего настроя можно рекомендовать одну из четырех основных моделей реабилитации, которые доказали свою эффективность в борьбе с зависимостями.
Терапевтическое сообщество
Терапевтические сообщества являются наиболее распространенной моделью с изученной и доказанной эффективностью. Начали они развиваться в 50-е годы XX века. Программа ТС (или, как их еще называют, «ти-си» от англ.: therapeutic community) основана на принципе исключительно добровольного соблюдения режима реабилитационного центра и безоговорочного принятия норм поведения и правил распорядка.
В рамках пребывания в центре полностью запрещены физическое насилие, сексуальные контакты и, конечно же, употребление психоактивных веществ (в некоторых случаях запрещено даже курение).
Цель терапевтического сообщества – научить людей вести здоровый, позитивный образ жизни. Программа основана на создании определенной атмосферы, побуждающей человека к пониманию и совершенствованию себя самого, а также идеального чувства безопасности и защищенности – то есть снижении стрессовых факторов, которые могли бы провоцировать желание вернуться к зависимости.
Как правило, на первых порах «пациенты» занимаются только собой – в группах или посещают индивидуальные консультации. Затем постепенно вовлекаются в посильную трудовую и учебную деятельность, начинают принимать участие в самоуправлении сообществом, осваивают новые профессии, которые позволят после завершения реабилитации полноценно адаптироваться в социуме.
Терапевтическое сообщество способствует поэтапному восстановлению личности и исключает саму возможность возникновения деструктивного поведения и мышления.
1. Сначала новый человек привыкает жить в сообществе, выполняет различные небольшие поручения.
2. Затем учится контролировать эмоции при контакте с другими людьми (стыд, гнев, страх, скрытую боль), учится преодолевать рамки своего «имиджа» (например, «мужчина никогда не должен показывать своих эмоций»).
3. Постепенно меняет негативные установки – «я не имею права на счастье», «я не имею права на существование».
4. Учится анализировать прошлое и делать выводы. Это позволяет избавиться от страхов в настоящем и обрести оптимистичный взгляд на будущее.
Важно понимать, задача сообщества не в том, чтобы человек перестал замечать негатив или «нес тяжелое бремя отказа от наркотиков». Нет. По завершении реабилитации он должен научиться объективно оценивать реальность, справляться со стрессами, со страхами, поддерживать нормальные (в том числе близкие и интимные) отношения с людьми и при этом сохранять способность радоваться жизни без наркотиков.
Одним из главных «направлений» работы с зависимыми является принятие простой истины: человек не всесилен, и это нормально. Чтобы быть счастливым и радоваться жизни, нужны и помощь, и поддержка других людей, и, в принципе, контакты с социумом.
Ключевые концепции ТС:
1. Позитивная и негативная мотивация
Когда зависимый попадает в центр, как правило, он делает это, чтобы отказ от наркотиков не причинял боль. Это негативная мотивация, поскольку она продиктована негативными ассоциациями. Но в процессе реабилитации меняется на позитивную – желание больше не возвращаться к употреблению веществ.
Видите разницу? Нежелание плохого сменяется желанием хорошего. На первый взгляд, разницы никакой, но на самом деле она огромна. Человек, который стремится просто избежать дурного, будет довольствоваться промежуточными результатами и вполне может позволить себе срыв, оправдываясь тем, что «просто не выдержал». Тот, кто стремится сделать свою жизнь хорошей, будет направлять действия в положительное русло, а изредка возникающую тягу воспринимать как препятствие, которое должно быть преодолено.
2. Выбор
Каждый человек должен сделать свободный выбор в отказе от наркотиков. В процессе собеседования перед принятием в ТС новичка спрашивают, почему он решил оставить зависимость, могут обсуждать философию сообщества. С одной стороны, это делается, чтобы убедиться в твердости намерений, а с другой – чтобы психологически подготовить к вступлению в культуру, полностью ориентированную на изменение принципов, жизненных ценностей, привычек и т. д.
3. Помогая другим, помогаешь себе
В какой-то момент пациент сам становится «ролевой моделью» для новичков, примером для подражания. Но их одобрение одновременно укрепляет и его в решимости измениться.
4. Ответственность
Человек должен понять и принять, что несет ответственность за свои действия. В том числе за зависимость. Кто и что бы ему ни предлагал, это именно он взял в руки шприц, поэтому именно от него зависит и конечный итог «лечения». В ходе собраний терапевтических групп, с помощью различных методик бывший зависимый учится осознавать и понимать поведенческие импульсы, просчитывать последствия действий и избегать того, что может привести к негативному результату.
5. Свобода от наркотиков и насилия
В ТС запрещено употреблять наркотики (или иные вещества, влияющие на мозговую деятельность и поведение), проявлять насилие или угрожать насильственными действиями.
6. Выявление скрытых проблем
Наркомания возникает вследствие какой-либо внутренней проблемы. С помощью употребления человек пытается ее решить, а вместо этого получает еще одну проблему, куда более страшную. Чтобы окончательно отказаться от зависимости, необходимо найти первопричину и устранить ее. Тогда употребление потеряет «психологическое назначение».
7. Активное участие
Нельзя излечиться от зависимости, просто присутствуя на собраниях. Необходима активная позиция – фактический принцип «расти или уходи». Нельзя отказаться от какой-то части программы, иначе она просто не сработает.
Одну из ключевых ролей в процессе играет взаимодействие пациентов и консультантов, которые также опираются на ряд разработанных принципов:
1. Внимательное отношение – это ключевой принцип, позволяющий создать доверительную атмосферу, помочь пациенту раскрепоститься, расслабиться, стать открытым и предельно искренним. Внимательное отношение строится не только на проявлении интереса и заботе, но также на определенном языке жестов, манере разговора и ведения диалога.
2. Описание эмоций – консультант формулирует суть того, что описывает пациент, рассказывая о чувствах. Это позволяет избежать недопонимания и создать ощущение сочувственного отклика.
3. Перефразирование – консультант повторяет сказанное пациентом, иногда слово в слово, иногда выделяя какую-то конкретную часть. Когда человек слышит то, что сказал, со стороны, совершенно по-другому начинает это воспринимать.
4. Резюмирование – подведение основных итогов диалога, группового собрания и т. д. Краткий обзор всех тем, затронутых во время сеанса. В процессе разговора неизбежно (как и в любом нормальном диалоге) затрагиваются несколько тем, происходит переход от одной к другой, и без резюмирования пациенту может быть сложно сделать и запомнить какие-то выводы. Краткий итог позволяет «подвести черту» и способствует тому, что результат беседы лучше откладывается в памяти пациента.
5. Зондирование – консультант задает вопрос и произносит утверждение, чтобы вывести подопечного или группу на разговор и обсуждение, направляя внимание пациентов внутрь, на глубокое обдумывание ситуации. Таким образом, зависимый учится самостоятельно разбираться в причинно-следственных связях поведения.
6. Самораскрытие – консультант рассказывает о собственном опыте, переживаниях, делится мнением. Это опыт, который создает у подопечного ассоциативный ряд «если мой консультант избавился от зависимости, значит, смогу и я». С другой стороны, обмен опытом создает более открытые, доверительные отношения, а подопечный зачастую может почерпнуть в рассказанных историях и ценный совет о реагировании на те или иные ситуации.
7. Истолкование – консультант демонстрирует подопечному альтернативный взгляд на описанную им (подопечным) ситуацию, помогает «взглянуть с другой стороны». Эта методика особенно эффективна при работе с отрицанием («я не делаю ничего плохо– го»), при налаживании контактов с другими людьми и т. д.
В ходе реабилитации зависимый проходит «эволюцию» по четырем направлениям:
ЗНАЮ, что
• Употребление всегда влечет негативные последствия
• Наркомания смертельна
• Зависимость – болезнь, которая поражает все сферы жизни
• Я болен
• Каждый имеет шанс вылечиться
• Проблема не только в употреблении
• Бездействие влечет возврат к зависимости
УМЕЮ
• Определять и выражать свои чувства
• Расставлять приоритеты
• Планировать свои дела
• Обращаться за помощью
• Говорить «нет» и принимать отказ
• Работать со своим состоянием (напряжение, тяга)
ХОЧУ
• Посещать группы
• Жить в трезвости
• Восстановить разрушенные сферы жизни
• Позитивных перемен в жизни
• Быть свободным
ВЕРЮ, что
• Мою проблему можно решить
• Люди могут мне помочь
• Я могу измениться
• Можно жить в трезвости и быть счастливым
• У меня все получится
• Есть нечто большее, чем «я»
На сегодняшний день программа терапевтических сообществ признана одной из наиболее эффективных.
Миннесотская модель наравне с ТС является программой, одобренной авторитетным профессиональным сообществом, наиболее распространенной, а главное, подходящей любым пациентам, независимо от религиозной или национальной принадлежности, социального уровня или психологических особенностей.
Миннесотская модель реабилитации
Была разработана в середине XX века в США в качестве системы, объединяющей ключевые положения «12 шагов» и ряда других аналогично эффективных моделей. Но в отличие от «Анонимных Наркоманов», которые опираются на идею взаимопомощи, миннесотская модель является именно профессиональным подходом к реабилитации, сочетая как принципы «12 шагов», так и современные достижения в области психологии, социологии, психиатрии и других отраслей, значимых для возвращения пациента к полноценной жизни.
Основные принципы миннесотской модели:
1. Наркотическая зависимость является хроническим неизлечимым заболеванием, которое имеет духовную основу и развивается не по вине пациента.
2. Наркотическая зависимость является одним из возможных проявлений глубинных духовных дефектов.
3. Зависимость невозможно до конца вылечить, но человек может повернуться от развития болезни к выздоровлению, если будет испытывать желание отказаться от духовных дефектов и будет правильным образом подготовлен.
4. Человек, испытывающий наркотическую зависимость, может легко приобрести и зависимость любого другого рода (например, алкогольную).
5. Реабилитационный центр представляет собой сообщество, в котором персонал сотрудничает с зависимыми, не противопоставляя себя им.
6. Реабилитация проводится на основе максимальной открытости в общении при строгом соблюдении анонимности и конфиденциальности.
7. Ответственность за выздоровление, в первую очередь, лежит на самом зависимом.
8. Сотрудники реабилитационного центра должны быть примером для зависимых, а взаимоотношения между персоналом – примером для построения отношений с людьми.
9. Желательно привлечение к процессу реабилитации максимально возможного количества близких людей пациента: семьи, друзей, коллег и т. д.
Основное отличие миннесотской модели от терапевтических сообществ состоит в активном применении наравне с идеологией «12 шагов» широкого спектра психотерапевтических подходов.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Нередко реабилитация начинается очень тяжело для всех сторон этого процесса. И роль психолога, которая в миннесотской модели очень значительна, подчас ключевая в выздоровлении. Иногда без квалифицированного психолога и не удалось бы сдвинуть работу с зависимым с мертвой точки.
Семейная сессия – важный элемент психотерапевтической работы. На ней обычно присутствуют психолог, сам пациент и значимые для него близкие люди. Очень много вопросов решается на таких мини-собраниях, важные психологические процессы происходят в результате такой совместной работы.
Вот одна из иллюстраций работы с психологом.
Во время семейной сессии мама зачитывает письмо пациенту о своих чувствах. В этом письме она рассказывает о том, что чувствовала в дни его употребления – какой стыд, страх, отчаяние переживала из-за его поступков.
Сыну сложно и больно соприкасаться со своей виной. Он начинает говорить: «Я не хочу все это слушать. Я не хочу вас больше видеть».
Он не готов признать последствия употребления и таким образом пытается защититься от чувства вины. Мать начинает еще больше плакать и объяснять, что она его любит, что желает ему только добра, что всегда будет рядом.
Такие моменты – отличный повод для дальнейшей работы с семьей. Психолог, который проводил семейную сессию, увидел в поведении матери сложный комплекс причин, провоцирующих употребление наркотика ее сыном.
Занимая позицию «всепрощения», она дает сыну понять, что никуда не денется, что бы он ни творил, всегда будет рядом и всегда оправдает его поступки.
И из-за этого он позволяет себе все, что ему хочется, потому что не понимает наличия каких-то последствий, каких-то жестких шагов со стороны семьи. Его никогда не наказывали. Мать всегда пугалась каких-либо манипуляций и пыталась только уговаривать.
Психолог объяснил матери, что в момент, когда сын отказывался слушать о ее чувствах, ей нужно было разозлиться или обидеться и уйти, сказать ему, что это бесчеловечное поведение и что она не готова продолжать разговор. В дальнейшем была проведена работа по подкреплению этого тезиса, выстраиванию позиции мамы по отношению к сыну.
Перелом произошел позже. Это случилось, когда мать разговаривала с сыном по телефону и услышала от него пренебрежительные высказывания. Она сообщила, чтобы тот не смел с ней так разговаривать. Этот момент стал отправной точкой в духовном взрослении нашего пациента.
До этого он просто не понимал, что можно, что нельзя. Он не чувствовал разрушительных последствий поведения. Мог начать хамить психологу и очень удивлялся, когда ему объясняли, что в таком виде работа продолжаться не будет.
Ситуация с телефонным разговором стала поводом, чтобы начать разбираться в себе, научиться правильно ориентироваться в собственных мотивах, уважать других людей. А для мамы этот шаг по отстаиванию собственных границ стал началом осознания себя самостоятельной сильной личностью. В целом было задано направление к выздоровлению всей семьи.
Очень часто зависимость сама по себе является следствием отсутствия границ, ориентиров. Родители ведут себя непоследовательно – сегодня наказывают, завтра поощряют, а послезавтра просто ничего не замечают. Очень многие даже не говорят о том, что нельзя употреблять наркотики. В процессе воспитания они много внимания уделяют тому, что надо мыть посуду, нельзя курить, нельзя поздно гулять, но запрет на наркотики даже не озвучивается. Без ориентиров и ощущения границ не построить устойчивый внутренний мир. А без психолога очень трудно проработать вопрос границ.
Конфессиональная модель
Отдельные элементы двенадцатишаговой идеологии используются и в конфессиональных реабилитационных программах. Конечно, они используются не в чистом виде. В центре концепции конфессиональной модели (и это закономерно) располагается Бог, как высшая сила, в которой зависимый ищет поддержку и опору. Помимо психологов, консультантов и иных специалистов, ему помогает духовный наставник, роль которого в выздоровлении зависимого очень велика. Если говорить о социальном устройстве такой модели, то, по сути, это – церковная община, которая живет по тем законам и тому укладу, которые свойственны любой общине данной конфессии.
Концепция этой модели включает в себя три «опорных столпа»:
Духовность
Основные религиозные моральные ценности позволяют создать основу для духовного, психологического и социального восстановления. Фактически человек вливается в готовую систему «ориентиров», к которым необходимо стремиться. Очень органично зависимый принимает данную модель, если изначально был верующим или имел какой-то религиозный опыт. Сложнее тем, кто такого опыта никогда не имел. Но и они иногда принимают основные концепции данной модели и становятся полноценными членами церковной общины.
Важной частью реабилитации являются духовные практики: молитвы – духовное общение с богом, которое позволяет человеку отрешиться от всего, в том числе от сомнений, проблем и личного недовольства; послушание – задания, которые исполняются по поручению духовника.
Психология
В некоторых конфессиональных центрах одновременно с духовным наставником работают квалифицированные психологи, помогающие разобраться с внутренними проблемами еще и с «научно обоснованной» стороны, используя современные методики. Но это лучше выяснять заранее, поскольку наличие психолога как штатной единицы в центре, работающем по данной модели, не является обязательным.
Трудотерапия
Не играет центральной роли (как в модели, непосредственно связанной с реабилитацией через труд), но тем не менее тоже представляет собой значимый фактор. Физический труд позволяет отвлечься, снизить напряжение, которое особенно владеет человеком в первое время реабилитации, обрести чувство востребованности («я выполняю нужное дело, значит, я и сам нужен»). Некоторые послушания, то есть поручения духовного наставника, помимо прочего, могут быть заданиями, связанными с физическим трудом. Тогда труд становится частью духовной практики.
Важным аспектом является то, что бывшие зависимые не просто молятся и «говорят о вере», но придерживаются некоего распорядка и практик, предписанных вероисповеданием: посещают богослужения, участвуют в таинствах, отправляют определенные ритуалы в повседневной жизни, соблюдают посты – делают все, к чему должен стремиться любой человек, считающий себя верующим и принадлежащим определенной конфессии.
Такая насыщенная религиозная жизнь, связанная в том числе и с ограничениями, позволяет психологически сгладить отказ от наркотиков, поскольку человек постепенно отучается от вседозволенности, к которой его наркотики и приучили. Небольшие, но значимые ограничения скрывают тягу к употреблявшимся веществам, как лес скрывает одинокое дерево, а следовательно, упрощает процесс отказа, не позволяя человеку сосредоточиться на мнимых страданиях из-за отсутствия наркотиков.
Так же, как в других реабилитационных центрах, в конфессиональной модели запрещено употребление психоактивных веществ и алкоголя. Если другие модели допускают курение, то здесь это категорически не одобряется.
В отличие от других моделей, данная программа предполагает не только отказ от употребления психоактивных веществ, но и воцерковление бывшего зависимого – то есть формирование религиозно-ценностной мотивации в повседневной жизни, а, в идеальном варианте, и участие в церковно-приходской жизни.
Важно понимать, что конфессиональная модель также не относится к сектантству, как и идеология «12 шагов», так как в основе реабилитации продолжает лежать принцип добровольности и свободы личности, а также отсутствие каких бы то ни было притязаний на материальные блага «пациента».
Но сложность выбора реабилитационного центра по конфессиональной модели заключается в том, что огромное количество сект маскируется под специалистов, действующих в рамках данной программы.
! Конфессиональная модель показана преимущественно людям верующим, поскольку атеисту будет крайне сложно найти для себя морально-нравственную опору и психологические «инструменты» для выздоровления в рамках церковной общины.
Трудовые коммуны
Идея создания трудовых коммун принадлежала врачу Всеволоду Петровичу Кащенко и педагогу Антону Семеновичу Макаренко, которые в начале ХХ века стали реализовывать педагогическую и психологическую практику перевоспитания с помощью труда, построенную на принципе: «Как можно больше уважения к человеку, как можно больше требовательности к нему».
На сегодняшний день по типу трудовых коммун действуют некоторые центры реабилитации наркозависимых. Это обособленные небольшие поселения, нередко живущие за счет самообеспечения. На первый план выдвигается так называемое «лечение трудом».
Ключевые принципы модели:
1. Обоснованность, значимость, комфорт
Любой труд и любые нагрузки должны быть адекватными с точки зрения физиологии, не должны быть психологически ущербными или социально примитивными. Цель трудотерапии – не только и не столько «отвлечь» человека от наркотиков, сколько вернуть ему ощущение социальной значимости и психологического комфорта через труд.
2. Нагрузка
Адекватный не значит минимальный или привычный. Трудотерапия направлена на то, чтобы человеку постоянно приходилось в каком-то смысле «преодолевать себя». Подобный навык оказывается незаменимым подспорьем при формировании привычки к отказу от наркотика.
3. Индивидуальный характер
Все люди разные – по физической силе, выносливости, возможностям организма, талантам и навыкам. Поэтому характер трудотерапии подбирается в индивидуальном порядке, исходя из множества параметров (в том числе с учетом состояния здоровья).
Трудовые коммуны зачастую кажутся привлекательным вариантом, потому что это самый недорогой способ пройти реабилитацию и получить пусть простую, но профессию. Тут важно понимать ряд нюансов.
Во-первых, содержать штат квалифицированных психологов дорого. В рамках трудовой коммуны (с учетом недорогой реабилитации) присутствие таких специалистов в центрах экономически недостижимо. Соответственно меньше шансов на успешный итог реабилитации.
Во-вторых, коммуна по большому счету живет за счет труда подопечных, при этом востребован именно тот трудовой потенциал, который не требует высокой квалификации: работа на земле, уход за животными, строительные работы небольшого масштаба. Вряд ли в таких условиях возможно обучить человека новой профессии, чтобы он вышел в жизнь подготовленным специалистом и применил полученные знания и навыки в обычной жизни. Если подобный центр не гарантирует обучение новой профессии, скорее всего реабилитант ее и не освоит.
Психологические методы реабилитации
Любая эффективная модель предполагает использование не только специфических для конкретной модели методов (трудотерапии, молитв и т. д.), но и современных психотерапевтических возможностей. В зависимости от центра это могут быть психодрама, гештальттерапия, символодрама, трансакционный анализ или иные методы в различных сочетаниях, поскольку все люди индивидуальны и для каждого зависимого будет более эффективным какая-то определенная терапевтическая практика или их сочетание.
Психодрама
Групповой метод, включающий в себя разыгрывание различных сценических представлений, а также аналитику и диагностику. Пациент в игровой форме переживает те или иные ситуации, осознавая, как они на него влияют, и воспринимая их по-новому. Подобное моделирование позволяет несколько раз проиграть одну и ту же ситуацию, опробовать различные варианты поведения и найти выход, казалось бы, из тупиковых положений.
Во-первых, данный метод позволяет избавиться от стереотипов поведения, которые создаются в процессе зависимости. Во-вторых, благодаря ему пациент учится анализировать происходящее, делать выводы и принимать решения, в том числе не на эмоциональной, а на рациональной, логической почве.
Телесно-ориентированная психотерапия
Построена на принципе единства тела и психики. Фактически это метод исцеления сознания через тесный контакт и понимание собственного тела. Он включает в себя комплекс упражнений на концентрацию, напряжение или расслабление.
Эти упражнения позволяют пациенту научиться регулировать мышечный тонус, дыхание и подчинить сознательному контролю негативные эмоции (страх, тревогу, гнев) – те, которые неизбежно приходится пережить в состоянии стресса или при ощущении тяги к наркотикам в периоды максимального риска вернуться к зависимости. Эти инструменты – важное подспорье для зависимого, когда он вступает в трезвую жизнь.
Гештальттерапия
Название метода происходит от немецкого слова «Qestalt» – то есть «образ/форма». Гештальттерапия направлена на развитие основополагающих психологических навыков, необходимых для полной реабилитации. Бывший зависимый учится находить выход из трудных ситуаций, выбирать и использовать различные модели поведения и, соответственно, адекватно контактировать с окружающим миром.
Одна из ключевых проблем зависимости – решение проблем через прием наркотиков. Человек начинает переживать жизненные драмы и избавляться от стресса с помощью новой дозы. Со временем неспособность справиться со своим состоянием закрепляется, а сами эмоции становятся примитивными – зависимый уже не может адекватно выразить свои чувства. С помощью гештальттерапии пациенты раскрывают в себе эмоционально-волевой потенциал, становятся устойчивыми к чужим манипуляциям и обретают способность самостоятельно бороться со стрессом и переживать сложные ситуации, не прибегая к «наркотическим иллюзиям благополучия».
Трансакционный анализ
Согласно теории Эрика Берна (создателя самой системы трансакционного анализа), большинство людей живут согласно «сценариям», созданным еще в раннем детстве родителями и обществом. Среди них есть как хорошие, ведущие к победе, так и плохие, мешающие добиться целей. Но сам человек практически не способен понять, что действует под влиянием чужих установок. Ему кажется, что он прилагает все усилия, чтобы решить проблему, но на самом деле только усугубляет положение.
Трансакционный анализ позволяет выявить основные отрицательные «сценарии», которые управляют жизнью пациента, и помочь ему сформировать новую модель поведения – как ее называет сам Берн, «модель победителя».
Символодрама
Один из наиболее эффективных современных методов, построенных на использовании образов. Заключается в переживании трудных жизненных ситуаций в определенном образе. Так пациент может изучить свое «бессознательное» и через расслабленное состояние излить негативные эмоции, избавиться от многих комплексов. А главное, это происходит совершенно безболезненно для его сознания.
Метод направлен на формирование навыков противодействия страху, тревожности и другим стрессовым состояниям, которые могут подталкивать к возобновлению зависимости.
Семейная психотерапия
Одно из самых молодых направлений психотерапии, применяемых в работе с зависимыми, но тем не менее показывающее великолепные результаты. В конечном итоге, семья – это самое главное в жизни любого человека. Это «система», состоящая из значимых друг для друга людей. И регулируется она непосредственно желаниями и намерениями близких.
Но зависимый человек в этой системе получается не совсем полноценным, даже когда попадает в реабилитационный центр. Родственники выстраивают с ним отношения, основываясь на личных стереотипах, внутренних предубеждениях, и зачастую это создает больше напряжения, провоцирует стресс, который, в свою очередь, способствует прогрессированию болезни.
Результатом становятся конфликты, скандалы, несчастные случаи, распад семейных отношений. Одним словом, финал подобной ситуации чаще всего трагичен.
Семейная психотерапия позволяет заново выстроить «мостики» равноценных отношений, разрешить конфликты, обрести гармонию, подтолкнуть к искоренению взаимных обид. Пациент же, в свою очередь, осознает ответственность за свои поступки и их влияние на самых близких. Он учится адекватно справляться с появляющимися трудностями и решать проблемы, возникшие в семейном кругу.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Бытует заблуждение, что психологи оперируют только сухой теорией – так сказать, разговоры разговаривают. Но на самом деле теория в психологии – это инструмент, который позволяет выстроить правильное поведение всех специалистов с зависимым и переломить развитие болезни в сторону ремиссии.
В реабилитационном центре проходила лечение 17-летняя девушка Лена. С 14 лет она периодически уходила из дома, в котором жила вместе с разведенной матерью. По характеру была достаточно агрессивна как в школе, так и дома, даже состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Периодически уходила жить к отцу, несмотря на то, что он был алкоголиком и приводил домой женщин-собутыльниц. Лену такое окружение, видимо, устраивало, и она могла жить у него до полугода, не ставя мать в известность. Наркоманкой стала очень быстро.
В какой-то момент девушка попросила маму положить ее на детоксикацию. Где и что она узнала о детоксе, можно только догадываться, но мотивации, естественно, не было никакой. Это была фактически несформированная личность без нравственных ориентиров и признания каких-либо авторитетов.
Мать воспользовалась внезапным импульсом дочери и привела ее в клинику. Немного поразмыслив, на что она дала согласие, Лена захотела бросить лечение. Она устраивала саботажи, скандалы, была даже наивная попытка демонстративного самоубийства, но мать твердо отказывалась ее забирать.
Огромным подспорьем было то, что мама сразу заняла правильную позицию: активно сотрудничала с реабилитационным центром, посещала индивидуальные занятия с психологом. В итоге специалисты пришли к неожиданному выводу, что для Лены основным стрессовым фактором была… любовь к матери.
Между ними не было тесного эмоционального контакта. Девушка считала, что матери она не нужна. Этому в значительной мере способствовало и то, что в семье подрастала младшая сестра, которую постоянно ставили в пример старшей. Естественно, в юном возрасте у Лены это вызвало протест, который и вылился в маргинальный образ жизни и употребление наркотиков. Мол, «раз мама считает, что я плохая, хорошо – буду плохой до конца».
Поняв причину, психолог центра начала общаться с Леной с материнской позиции, давать ей то принятие, любовь и похвалу, которую не надо заслуживать, которую мать дает ребенку просто так. Потом потихоньку начали проводить совместные сессии с матерью, и материнская роль плавно перешла к той фигуре, где должна была наблюдаться изначально. Ситуация сразу начала выправляться.
Сейчас Лена уже 2 года в устойчивой ремиссии, восстановилась в колледже, задумывается над получением высшего образования.
Как устроен реабилитационный центр
В основной своей массе реабилитационные центры делятся на два типа – совмещенные (где клиника и реабилитационный центр находятся в одном здании) и самостоятельные.
Первые по структуре больше всего напоминают больницу – это позволяет совмещать на одной территории «детокс» и реабилитацию. Однако для некоторых людей больничная атмосфера оказывается более гнетущей, постоянно напоминая о зависимости. Совмещенный вариант сейчас уже практически не встречается, потому что это нерационально и, по большому счету, неэффективно.
Другой тип, как правило, представлен несколькими отдельно стоящими домиками или большим зданием со спальнями, столовой, кухней и комнатами отдыха. В зависимости от модели, по которой работает реабилитационный центр, на его территории также может располагаться часовня, могут быть выделены зоны для спортивной активности или проведения трудотерапии (если она не организована в рамках общего здания).
Часть центров располагается за городом – там, где ничто не сможет потревожить пациентов, а главное, ничто не будет напоминать ту «жизнь», в которой они принимали наркотики. Зачастую отсутствие воспоминаний и ассоциаций уже является мощным фактором, способствующим восстановлению.
В любом случае, в реабилитационном центре создаются все условия для полноценной жизни пациентов – сна, гигиены, еды, досуга, работы и т. д.
Примерный распорядок реабилитационного центра
В зависимости от модели реабилитации и внутренних особенностей распорядка расписание может отличаться. Но в основе своей оно выглядит так:
• Подъем (как правило, достаточно ранний – когда к этому располагают естественные биологические часы большинства людей).
• Настрой на позитивный день – как правило, позитивный настрой заключается в том, что консультанты составляют вместе с подопечным короткую фразу из 7–8 слов, которую человек произносит после пробуждения. Смысл фразы в целом сводится к тому, что у него все получится. Это легкая форма «самогипноза», который позволяет с самого начала дня воспринимать все происходящее с большим оптимизмом и положительными эмоциями.
• Зарядка, гигиенические процедуры – зарядка, как правило, несложная, просто чтобы организм проснулся, а мышцы пришли в тонус. Нормализация кровообращения имеет значимую физиологическую подоплеку – чем активнее кровоток, тем лучше питание всего организма, и мозга в том числе.
• Завтрак – в реабилитационных центрах следят за тем, чтобы питание было сбалансированным и здоровым.
• Утреннее собрание
• Лекция, групповая терапия
• Обед
• Треннинг в группах
• Индивидуальные задания
• Ужин
• Личное время
• Итоги дня
• Отбой
Остановимся чуть подробнее на лекциях, тренингах, групповой терапии и т. д. Это различные «форматы» реабилитационных мероприятий, каждое из которых имеет различные принципы воздействия на пациентов. Поэтому их сочетание позволяет добиться эффективных результатов для каждого.
Лекция – форма занятия в виде «рассказа» о зависимости, о ее специфике, об основных этапах заболевания, а также методах исцеления, о возможных рисках и скрытом потенциале человеческого организма. Занятия проводят психологи и консультанты реабилитационного центра.
Тренинг – занятия на основе психотерапевтических методов, описанных выше. Это практическая проработка определенных поведенческих навыков, а также аналитическая работа над стратегиями поведения, которые помогают в конечном итоге избавиться от тяги к употреблению психоактивных веществ. Кроме того, в процессе тренинга закрепляется информация, полученная на лекциях.
Малая психотерапевтическая группа – совместная психотерапевтическая работа, которая проходит под руководством психолога или консультанта центра. В рамках подобных собраний пациенты решают одну общую для всех задачу – задачу выздоровления. Они вместе исследуют причины развития зависимости, прорабатывают механизмы противодействия, а главное, обмениваются индивидуальным опытом, советуются, параллельно тренируются и в коммуникации, а зачастую и в решении споров. Можно сказать, что подобные собрания – это одно из главных мероприятий в ходе реабилитации.
Письменные задания – работа в реабилитационном центре это не только разговоры. Значимую роль играют практические задания, которые не только помогают сотрудникам лучше понять пациента, но и самому зависимому добиться определенных успехов.
Некоторые направлены на осознание необходимости лечения от зависимости. Человек осознает, что тяга к наркотикам – это не блажь и не временная привычка, это болезнь. Другие позволяют увидеть негативное влияние этой болезни на жизнь, справиться с отрицанием или смягчением последствий, принять правду, какой бы неприглядной она ни была, и настроиться на исправление ситуации.
Мониторный час – комплексная терапия в форме диалога «психолог/психотерапевт – пациент». Это индивидуальное мероприятие, в ходе которого человеку помогают глубже разобраться в своих мыслях, чувствах, мотивациях. Ему помогают найти в самом себе силы для подавления страха, агрессии и обретения уверенности. Кроме того, проводится психокоррекция причин, некогда побудивших пациента к употреблению психоактивных веществ. В ходе работы у человека повышается самооценка, нормализуются ожидания и притязания, активизируется мышление, происходит пересмотр жизненных ценностей и т. д.
Итоги дня – занятие, которое посвящается обсуждению достижений за день. Казалось бы, за один день можно сделать совсем немного, но для подавляющего большинства зависимых и это «немного» является огромным шагом к выздоровлению. И упоминание об этом становится стимулом продолжать лечение. Кроме того, в рамках итогового «занятия» пациенты могут проявить чувства, высказаться, дать оценку действиям, задать вопросы или попросить консультанта поделиться опытом, чтобы решить возникшую проблему.
Медитация – в некоторых реабилитационных центрах прибегают к данной методике, чтобы расслабить пациентов. С помощью специальных техник пациенты приходят в состояние релаксации, у них снижается возбуждение, наступает максимальная концентрация на собственном подсознании и внутреннем мире. Главная цель – научить людей расслабляться без употребления психоактивных веществ.
Распорядок центра также определяет строгие запреты, правила телефонных разговоров, места приема пищи, курения (если оно разрешено) и других моментов жизни пациента.
На первый взгляд кажется, что это очень строго, но сама природа наркозависимости требует большой ответственности в период реабилитации, когда риск «срыва» чрезвычайно высок и необходимо обеспечить максимально спокойную, расслабленную, контролируемую атмосферу для пациента.
РЕЗЮМЕ:
1. Самые эффективные модели реабилитации имеют в своей основе общую идеологию «12 шагов», которая подтвердила свою эффективность со времен создания первых групп «Анонимных Алкоголиков» и с тех пор практически не менялась.
2. Существует 4 основные модели реабилитации: классическое терапевтическое сообщество, миннесотская модель, конфессиональная модель, трудовая коммуна. Каждый зависимый, заранее зная об особенностях той или иной модели, может тяготеть к одной из них.
3. Реабилитация в той или иной степени (в зависимости от модели) включает в себя психотерапию, направленную на освобождение личности от влияния наркотика, отработку глубинных психологических причин зависимости, выработку новых психологических инструментов для трезвой жизни.
4. В реабилитационном центре реабилитант занят постоянно. Это либо групповые занятия, либо работа над собой, либо выполнение заданий. В конфессиональных центрах большое внимание уделено исполнению правил, соответствующих конфессии, в трудовых коммунах – труду.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Есть такая игра со страшноватым названием «Похороны пациента». В чем она заключается? Человек описывает свои похороны, полностью, весь сценарий – начиная от того, на чем он сорвется в употреблении, и заканчивая последствиями своей смерти для окружающих. Сценарий такой: «Я выхожу из центра, и через какое-то время опять начинаю употреблять. Что будет дальше?»
Во-первых, такое задание позволяет сразу увидеть потенциальный риск срыва, и психологи потом могут этот момент проработать. Пациент подсознательно действительно назовет самую значительную причину, по которой он может снова начать принимать психоактивные вещества.
Во-вторых, многим пациентам кажется, что после их смерти жизнь кончится: не вынесут горя ни мама, ни папа. Важно перевернуть это, показать, что жизнь не заканчивается. Другим пациентам раздаются роли (родители, муж/жена и т. д.), и они озвучивают дальнейшие сценарии. Например, жена пришла на похороны уже с новым мужем, которого ребенок пациента называет папой. Это позволяет выявить моменты, на которые можно надавить, чтобы человеку не хотелось умирать. Чтобы он хотел жить дальше, а следовательно, чтобы был стимул отказаться от употребления.
Старшие пациенты уже знают это задание, а новички (особенно в стадии отрицания) периодически называют это богохульством. Один раз, когда это случилось, психолог сказала, что все, что происходит в реабилитационном центре, Бог одобряет. Через несколько секунд за окном начали бить колокола. Многие пациенты расплакались и до сих пор вспоминают, что лично для них это было не простым совпадением.
Мы не можем как-то однозначно прокомментировать подобные вещи – понятно, что большинство из них просто случайности из разряда «хотите – верьте, хотите – нет». Но мы предпочитаем думать, что все, что ни происходит, – к лучшему. Грамотные психологи обязательно обращают внимание пациентов на такие эпизоды. Ведь еще до того, как реабилитант разберется со своими проблемами с рациональной точки зрения, он сможет, переживая и возвращаясь в мыслях к таким совпадениям, уже сейчас почувствовать, что его путь правильный, укрепить свои силы и ощутить что-то большее, чем поддержка тех, кто его окружает.
Секты и центры реабилитации
К сожалению, под видом реабилитационных центров нередко действуют разнообразные псевдорелигиозные организации – попросту говоря, секты. В российском законодательстве нет ни определения секты (это фактически разговорное слово), ни каких-либо мер пресечения подобной деятельности. Поэтому до сих пор они процветают, заманивая наркозависимых, пользуясь неустойчивостью их психики и отчаянием родственников, готовых поверить любым обещаниям о возможном исцелении. После этого на новых адептах тем или иным способом начинают наживаться.
Чем опасны секты
• Одна зависимость взамен другой.
Пожалуй, самое страшное, что в секте люди действительно могут отказаться от наркотиков. Но это не выздоровление. Взамен одной зависимости просто предлагается другая. Согласно многочисленным свидетельствам, экстаз, который испытывают члены сект во время собраний, совместных молитв и лекций, очень схож с воздействием психоактивных препаратов. Это неконтролируемый транс, который может не только выражаться в безобидном веселье, но и доходить до судорог и эпилептических припадков.
Профессор богословия Александр Дворкин, длительное время занимавшийся изучением деятельности сект, рассказывает, что во время молитвы у «Пятидесятников» (одна из наиболее известных организаций подобного рода) люди впадали в экстатическое состояние, «в индуцированный массовый психоз, мощнее, чем на сеансах Кашпировского».
В свою очередь протоиерей Александр Новопашин, председатель Новосибирского отделения Центра религиоведческих исследований, нашел и объяснение взаимозаменяемости двух зависимостей:
«Ученый Хэмфри Осмонд еще в 1952 году заметил, что мескалин (один из сильнейших галлюциногенов) схож с адреналином, который организм вырабатывает в стрессовой ситуации. При этом важно понимать, что стресс в понимании организма – это не только что-то плохое. Это вообще любая сильная эмоция, то есть сильное воздействие нанервную систему. Экстаз, в который впадает адепт, тоже стресс, вызывающий выработку огромной дозы адреналина. Естественно, человек хочет пережить это снова и снова. Поэтому, так сказать, излечившиеся от наркозависимости реабилитанты остаются при сектах. Они продолжают оставаться зависимыми, просто уже от «наркотика» совсем другого рода».
Тут нужно понимать два момента.
Во-первых, о реабилитации как таковой говорить не приходится. К самостоятельной жизни человек уже не вернется – он просто не сможет без секты, своих «духовных лидеров». Кроме того, сектантство не менее опасно для личности человека, чем психоактивные препараты, – точно так же прежняя личность разрушается, а ей на смену приходит «запрограммированное сознание». У человека не остается собственных нравственных ориентиров, принципов, привязанностей, увлечений. Он меняется так же, как под воздействием наркотика, просто физически ничего не употребляет.
Во-вторых, как мы упоминали, далеко не все секты действительно отучают адептов от приема психоактивных препаратов. Во многих организациях наркотики, наоборот, являются средством воздействия и удержания. Поэтому в конечном итоге человек может не только не оставить зависимость, но приобрести сразу две – и от наркотиков, и от секты.
В-третьих, нельзя рассчитывать, что последствиями участия в сектантском движении будет только устойчивое желание в ней остаться. Там человеческая жизнь разрушается так же, как и при употреблении наркотиков, со всех четырех позиций: психологической, социальной, духовной и физической.
Утрата финансового благополучия
Умело манипулируя адептом, сектанты, так или иначе, идут к тому, чтобы отобрать у человека все, чем владеет он и его родственники. Помимо прямого воздействия на зависимого (то есть убеждения или принуждения переписать имущество на лидера секты), в ход могут идти рассказы о неожиданно обнаруженном сложном заболевании, которое требует дорогостоящего лечения. Естественно, родственники тут же в панике бросаются снимать все накопления, продавать машины/квартиры, лишь бы спасти близкого человека, который на самом деле в полном порядке. Но даже если он действительно болен, после получения всех возможных средств секта помогать не будет.
Нередко, если человеку удается выбраться, он выходит оттуда нищим, в буквальном смысле не имея «ни кола, ни двора».
Утрата здоровья и жизни
Самое опасное из последствий. Бесполезно обсуждать, почему сектанты так относятся к людям. Это все равно что рассуждать о моральном облике наркодилеров. В моральной позиции они фактически идентичны – то есть воспринимают людей исключительно как источник своего благополучия и возможности проявить власть.
В секте адепты могут подвергаться чудовищным унижениям и даже пыткам. Им могут не оказывать медицинскую помощь даже при тяжелых заболеваниях, заставлять работать на измор. Ценой обогащения сектантов становятся тысячи загубленных жизней.
Более того, в ряде сект пропагандируется ритуальное самоубийство – лидеры и наставники утверждают, что самоубийство позволяет человеку очиститься, перейти в новый мир. Подоплека не важна – важно то, что только с 1990 по 2000 г. в мире было зафиксировано 5 массовых самоубийств сектантов. Во время одного из них, в акте самосожжения, погибло 700 человек.
11 признаков секты
В принципе любая секта построена на строжайшей иерархии. Зачастую на первых порах используется специальный прием: новичка окружают заботой со всех сторон сразу два сектанта, которые постоянно с ним общаются, чтобы не допустить возникновения критических мыслей по отношению к секте. Доходит до того, что человека не оставляют одного даже в туалете.
На первый взгляд кажется, что строгая иерархия присутствует и в традиционных реабилитационных моделях. Но важно понимать, что, в отличие от секты, в центре у человека всегда есть выбор – даже самый простой: остаться или уйти. Выйти из секты крайне сложно, и в этом заключается одна из главных опасностей. В большинстве случаев приходится в буквальном смысле сбегать и потом «окольными тропами» добираться до дома или отделения полиции. За попытку побега в секте могут быть применены даже тяжелые физические наказания и лишение пищи, воды или сна на несколько дней.
Чаще всего сектантам удается привлечь новых адептов за счет того, что в основной своей массе люди очень мало знают о подобных «организациях». На самом же деле распознать ее в большинстве случаев достаточно просто.
1. Больше людей
Секта постоянно и достаточно агрессивно набирает новых адептов. Агитация распространяется всеми доступными способами и чрезвычайно назойливо: звонки, письма, предложения посетить бесплатные семинары, благотворительные фестивали и концерты, психотренинги, даже хождение по квартирам с какими-то приглашениями.
Казалось бы, все это укладывается в обычную рекламную кампанию, но ключевое отличие секты – назойливость. Стоит один раз проявить интерес, и вас уже не оставят в покое. Будут звонить, писать, и даже если откажетесь, вас будут переубеждать снова и снова. Даже агрессивный отказ не всегда позволяет избавиться от настойчивых уговоров.
2. Идеология
Поначалу предлагают нечто размытое, что можно «вписать» в любые общепризнанные ценности. Всей правды новичкам никогда не раскрывают. «Промывка мозгов» начнется после того, как человек попадет в секту. А до этого будет использоваться терминология и идеи, которые должны пробудить доверие. Как правило, используется упор на религию. Причем добиться конкретного обозначения религиозного течения практически невозможно.
3. Взносы
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – это мы знаем все. И лечение в реабилитационных центрах не бесплатное. Проблема в том, что как раз секты изначально, как правило, молчат о необходимости каких-либо «финансовых вложений». Это уже потом, когда жертву поймали на крючок, начинаются заявления о взносах.
Даже если речь об оплате заводится сразу, сектанты никогда не могут в точности сказать, сколько потребуется заплатить, и тем более не соглашаются подписать какие-либо документы о финансовых или каких бы то ни было других обязательствах.
Причем для вымогательства не чураются никаких методов. В ход могут пойти шантаж, угрозы здоровью и жизни самого адепта или его близких. Во время сеансов зависимые рассказывают о себе достаточно много, чтобы можно было разобраться, какой метод давления будет наиболее эффективным. А люди, которые работают в сектах, являются прекрасными психологами и манипуляторами.
! Дарственная на имущество может быть получена и в результате тщательно проработанного непрямого внушения. Человека могут снова вернуть к употреблению наркотиков, чтобы в момент эйфории, когда он себя не контролирует, получить подпись на нужном документе, или шантажировать отсутствием новой дозы, пока тот не согласится все подписать.
4. Лидер
У любой секты есть лидер, который обладает непогрешимым авторитетом. Все, что он говорит, – истина в последней инстанции. Как правило, откровения нисходят на лидера «откуда-то свыше», но бывают и достаточно ушлые товарищи, которые пересыпают свои мысли псевдонаучными теориями, вызывающими доверие.
Если нормальные реабилитационные центры признают эффективность и других моделей, оставляя за человеком право выбора и опираясь на индивидуальный подход и подбор программы, секта всегда претендует на обладание единственно верным знанием. Пытаться что-то обсуждать бесполезно – любые другие идеологии и программы будут отвергнуты и раскритикованы.
5. Подавление логического мышления и свободомыслия
Очевидно, что, сталкиваясь с сектантской идеологией (которая в основе своей сводится к простому постулату «все на благо секты и лидера»), человек в какой-то момент начинает находить все больше и больше нестыковок. У него появляются вопросы, на которые у сектантов нет ответов. А значит, появляется шанс, что человек начнет оказывать сопротивление и просто сбежит.
Поэтому значительная часть сектантской программы направлена на исключение самой возможности рационального сознания. Для этого используются специфические медитативные практики, групповое погружение в транс и даже медикаментозные средства. Большую часть людей в сектах держат в состоянии безволия, ровно на той грани, которая позволяет приносить пользу, не более.
Какая-либо литература, кроме «внутренней», запрещена – причем отбираются не только какие-либо сложные книги, которые могут действительно нанести вред психике, подорванной психоактивными препаратами, но даже Библия. Можно сказать, особенно Библия, потому что зачастую в религиозных сектах существуют собственные, с искаженными фактами и удобными трактовками, а у адепта не должно быть возможности их оспорить.
6. Собрания и информационные материалы с «чудесами»
Как правило, у секты существуют собственные брошюры, книги и даже диски, «помогающие» новому адепту проникнуться идеологией. Но не это главное (брошюры существуют и у обычных реабилитационных центров). Пожалуй, важнее обязательное наличие собраний, которые могут посетить будущие члены секты, – в ходе подобных «встреч» начинают происходить какие-нибудь чудеса или знамения, подтверждающие истинность идеологии.
7. Отчуждение от мира
Одно из ключевых отличий! Если работа реабилитационного центра направлена на то, чтобы человек мог вернуться в обычную жизнь (в семью, в работу), адаптироваться к жизни в обществе, то секта, напротив, все больше и больше отдаляет его даже от самых близких.
Как правило, этого достигают через постоянное внушение некой «элитарности», «избранности». Мол, вы уже узнали истину, поэтому вы особенные. А остальные еще слепы, они ничего не понимают и даже борются против наступления царства истины. В конечном итоге, человек убеждается, что только в секте его понимают и любят, а все остальные – жестокие слепцы. И чем больше родственники убеждают зависимого вернуться, чем агрессивнее их доводы и активнее нападки на секту, тем больше адепт проникается идеей, что его единственная семья только здесь. Ведь «братья и сестры» его не ругают и разделяют убеждения.
Нет, конечно же, у человека есть возможность воссоединиться с близкими, если они так же, как он, всем сердцем примут идеологию секты. К сожалению, иногда случается и такое – во власть сектантов попадают целые семьи.
! Если вы подозреваете, что близкий попал в секту, ни в коем случае не пытайтесь туда проникнуть под видом нового адепта в надежде вытащить родственника. Вам могут подложить психоактивные вещества в еду или воду. В результате вы не только никого не спасете, но и сами можете попасть в ловушку.
8. «Покровительство» известных лиц
В девяностые годы у населения не было достаточного иммунитета против сект. Проповедники из разных стран собирали огромные стадионы жаждущих чуда. В разного рода «Аум Синрикё» и «Братства креста» попадали толпы людей, передавая свои сбережения лидерам сомнительных культов. Постепенно население стало получать правдивую информацию о подобных организациях из средств массовой информации и стало осторожнее. Сект в нашей стране поубавилось, но оставшиеся стали «хитрее».
Современные сектанты отлично маскируются, чтобы с первого раза не вызывать подозрений. Самый распространенный способ войти в доверие к неосторожным гражданам – это привлечение широко известных медийных фигур в качестве покровителей. Ими могут быть знаменитые политики, спортсмены, артисты. Между тем многие из них даже не подозревают, что поддерживают сектантов, поскольку служители сомнительных культов искусны в обмане.
Так что на сайтах, в брошюрах таких «реабилитационных центров», в статьях и новостных сюжетах о них вы часто будете встречать известные лица, о покровительстве которых сектанты радостно заявляют. Конечно, это преподносится как поддержка благого дела – реабилитации наркозависимых, а вовсе не как поддержка новоиспеченного религиозного движения, цель которого одна – собрать как можно больше средств со своих адептов.
Не так давно одному известному политику, знаменитому спортсмену пришло письмо: «Я преклоняюсь перед вашим талантом, вы всегда были для меня примером для подражания, – писал молодой человек. – Желая стать таким же сильным, как вы, я нашел в себе мужество отказаться от наркотиков, стал заниматься спортом и теперь помогаю тем, кто не может сам бросить пагубное пристрастие. Спасибо большое за мое спасение! Если вам будет интересно, буду рад показать реабилитационный центр, в котором выздоравливают ребята, вдохновленные вашей волей к победе». Мы намеренно не приводим точный текст письма, но контекст был именно таким. Разумеется, отзывчивый спортсмен захотел поддержать ребят, ориентированных на здоровый образ жизни, посетил один из их реабилитационных центров, в котором ничего подозрительного не заметил, потому что ничего такого показывать, понятно, не стали, и начал сотрудничать, помогать решать разные вопросы. Очень скоро один из лидеров секты, замаскированной под сеть реабилитационных центров для наркоманов, занял серьезную административную позицию. Однако разоблачение не заставило себя ждать: секта открыто была названа сектой. Многие общественные и религиозные деятели, занимающиеся сектантством, быстро выяснили, что стоит за «ревнителями здорового образа жизни», написавшими трогательное письмо герою нашего небольшого рассказа, – неохристианская религиозная секта, заманивающая в свои ряды наркоманов, предлагая им доступную реабилитацию. Уважаемый всеми политик-спортсмен, чтобы не запятнать репутацию, конечно, публично высказал свое отношение к сектантам, выразил сожаление, что по незнанию попал в сети хитрого культа, и какое-то время, сам того не ведая, помогал ему развиваться.
9. Стопроцентные гарантии
Как и в случае с шарлатанством, чаще всего секты обещают полную гарантию избавления от зависимости. Причем на всю оставшуюся жизнь. Никакой «привычки к отказу», никаких рисков последующих соблазнов. Нужно всего лишь всем сердцем предаться идеологии, и ты исцелишься. Если не исцелился, значит, недостаточно веришь.
10. Нерациональная трудотерапия
Зачастую секты маскируются под трудовые коммуны. Но тут есть значимая разница – если, следуя гуманистическим принципам, в коммуне человеку подбирается тот вид труда, который наиболее соответствует его физической выносливости, состоянию здоровья и личным интересам (кому-то больше нравится готовить, кому-то – работать по дереву), то в секте вся программа направлена на то, чтобы выжать из человека максимум возможных ресурсов. Адепта просто заставляют работать на износ, причем чаще всего выполнять грязную и выматывающую работу либо работу, унижающую человеческое достоинство.
В 2012 году в округе Коми разгорелся масштабный скандал вокруг реабилитационного центра, принадлежавшего Александру Расковалову. Зависимых использовали как бесплатную рабочую силу – они отстроили руководителю два дома, один из которых был выставлен на продажу за 2,5 млн, а второй – за 4 млн рублей. Этот случай широко обсуждался в средствах массовой информации.
11. Условия жизни
Любой реабилитационный центр закономерно стремится к тому, чтобы обеспечить максимальный комфорт для зависимых. У них и так хватает стрессовых факторов, ни к чему добавлять новые. Чем более комфортно чувствует себя человек, тем проще ему воспринимать программу, не отвлекаясь на негативные раздражители. Когда человек недоволен едой, не высыпается, испытывает бытовую стесненность, он не способен рационально мыслить.
В большинстве сект людей содержат в условиях, которые просто позволяют «выживать». Чудовищно читать рассказы людей, которые смогли вырваться из этого ада. Еда, представляющая собой чуть ли не помои, жизнь в настоящих бараках десятками человек, иногда даже в общих помещениях, где мужчины и женщины проживают совместно, никакой медицинской помощи.
Подбирая реабилитационный центр, важно проявить бдительность. Не нужно рассчитывать на авось и думать, что в случае чего всегда успеете забрать близкого и перевести его в другой центр.
Прежде всего, даже за короткое время новичку может быть причинен значительный вред. К тому же, как только зависимый попадает в сектантский реабилитационный центр, ему сразу «обрубают» связь с окружающим миром. Звонки, переписка и, тем более, посещения строго запрещены. Вы можете просто не узнать, в каком состоянии находится близкий (собственно, для этого и вводятся запреты).
Даже если вам смогут передать сообщение с просьбой о помощи, это еще не значит, что проблема будет решена. Попасть на территорию сектантского центра не так просто, а уж забрать человека тем более. Нужно будет обращаться в полицию, собирать заявления от других родственников пострадавших. И только тогда можно надеяться, что ситуация разрешится и секта «отдаст» новичка.
РЕЗЮМЕ:
1. Секты активно действуют под видом реабилитационных центров.
2. Чтобы не попасться, не направить туда своего близкого, очень внимательно изучайте выбранные реабилитационные центры заранее.
3. Если ваш близкий уже попал в секту, никогда не пытайтесь внедриться туда, чтобы ему помочь, поскольку это опасно. Обращайтесь сразу в профильные общественные организации и правоохранительные органы.
Сложности двойного диагноза
По разным данным, процент зависимых с сопутствующими психическими расстройствами колеблется в районе 10–15 от общего количества наркозависимых. Как правило, эта группа пациентов показывает выраженные проблемы адаптации к социуму, агрессию, нестандартную клиническую картину, отягощенность другими, уже не психическими болезнями.
Основная проблема заключается в том, что четко разработанной программы, общепризнанных клинических рекомендаций по лечению подобных пациентов до сих пор не существует. Поэтому совместная работа наркологов и психиатров остается вариантом частной инициативы ряда клиник и реабилитационных центров.
Зачастую в клиники и реабилитационные центры попадают пациенты, у которых, помимо наркомании, наблюдается еще какое-либо психическое расстройство. В некоторых случаях оно развивается как следствие употребления психоактивных веществ, но бывает и так, что заболевание накладывается на развитие наркотической зависимости и по происхождению никак с ней не связано.
Именно в этом заключается сложность двойной диагностики при лечении наркомании – оба заболевания влияют друг на друга, искажая клиническую картину, усугубляя состояние. Поэтому к такому пациенту нужен особый подход: тщательная диагностика и комплексное лечение, включающее в себя лечение как основного, так и сопутствующего заболевания. Иначе, пока продолжает развиваться психическое расстройство, будет прогрессировать и зависимость. К сожалению, человек самостоятельно не в состоянии понять, что наркотик не помогает избавиться от болезни. Кроме того, под влиянием психической болезни ослабляются способности к логическому мышлению и воля, то есть все качества и способности, которые помогают обычным наркоманам на пути выздоровления.
С другой стороны, пока развивается зависимость, может прогрессировать и психическое расстройство, так как многие вещества разрушительно воздействуют на центральную нервную систему, способствуя усугублению дестабилизации психической деятельности, а в ряде случаев ведут к органическому поражению мозга.
Важно вовремя поставить двойной диагноз. Во-первых, ряд медицинских препаратов имеют противопоказания, и их нельзя применять, если человек употребляет определенные психоактивные вещества или страдает от определенных расстройств. Отсутствие качественной диагностики может привести к тому, что лечение не только окажется неэффективным, но и нанесет еще больший вред здоровью пациента.
Во-вторых, поочередное лечение зависимости и психических расстройств не принесет какого-либо выраженного результата. Да, после проведения «детоксикации» физически пациент приблизится к определенной норме. Однако, как мы уже упоминали, заболевание будет снова и снова толкать его к употреблению наркотиков. Его будет сложнее уговорить на прохождение реабилитации, которая должна быть исключительно добровольной. И даже если он согласится лечь в клинику, в какой-то момент, без объяснения причин, он просто прервет лечение и снова вернется к зависимости.
И наконец, в-третьих, определенные психические расстройства требуют определенного подхода со стороны специалистов. Не понимая, что происходит с человеком, врачи и психологи не смогут наладить адекватный контакт с пациентом, и все проверенные стратегии работы с зависимым попросту не сработают, что может опять-таки поставить под сомнение успех будущего реабилитационного курса. Например, находясь в состоянии бреда, человек может быть уверен в том, что врачи представляют для него угрозу.
Чтобы не пропустить сопутствующий диагноз, нужно при малейших подозрениях выбирать клинику или центр, в котором, помимо стандартной детоксикации, может быть проведено квалифицированное обследование психиатром. Причем именно специалистом, который длительное время работает с наркозависимыми.
Дело в том, что симптоматика ряда психических расстройств иногда похожа на эффект от наркотиков и обратимую симптоматику, которую они вызывают. Например, проблемы с памятью, перепады настроения могут быть как признаком серьезного заболевания, так и временным эффектом, который пройдет самостоятельно, как только будет восстановлено нормальное функционирование всех систем организма.
И тут важно не ошибиться. Нужен опыт, специальные знания, чтобы отличить одно от другого, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.
Вторая сложность – анозогнозия. Так же, как и в случае с наркоманией, люди, страдающие шизофренией или целым рядом других психических заболеваний, склонны отрицать наличие болезни. Они считают себя здоровыми, проявления болезни относят к внешним проблемам и поэтому могут не рассказывать о важных симптомах, считая их незначительными или даже стыдясь, как слабости (например, если у человека депрессия). В таком случае нужен опытный специалист-психиатр, который умеет правильно формулировать и задавать вопросы, быть внимательным к поведению пациента, а также к тому, что рассказывают близкие. Все это необходимо для правильной постановки диагноза.
Существуют 4 признака, позволяющие сразу предположить высокий риск наличия самостоятельного психического расстройства:
• семейная история болезни – если в истории семьи были люди с психическими отклонениями, существует возможность влияния наследственности на развитие расстройства;
• нестандартная реакция на употребление психоактивных препаратов – выраженная необычность поведения на фоне приема наркотиков, когда реакция не соответствует ожидаемой для данного вещества;
• необычное поведение в период между приемом наркотика – в трезвом состоянии зависимый ведет себя неадекватно: к чему-то может прислушиваться, чего-то сильно бояться, быть агрессивным, терять сознание, быть гиперактивным или, напротив, необычно пассивным, может пытаться покончить жизнь самоубийством. Эта симптоматика не должна соответствовать типичному поведению наркомана в период отмены наркотика;
• неоднократное лечение – может свидетельствовать о недостаточной квалификации специалистов, неправильно выбранной модели реабилитации или личных проблемах пациента (не хватило воли, не хватило мотивации), но может быть и признаком того, что психическое расстройство не было диагностировано вовремя.
Каждый из этих признаков не является гарантией двойного диагноза, так же как отсутствие их не гарантирует отсутствие психического расстройства (оно может быть просто в стадии ремиссии). Однако такие моменты должны заставить врачей обратить более пристальное внимание на пациента.
Лечить таких пациентов следует комплексно и, крайне желательно, в одном учреждении. Долгое время зависимые, страдающие от психических расстройств, были вынуждены прибегать к так называемому дифференцированному лечению. Проще говоря, их «гоняли» из наркологических лечебниц в психиатрические, туда-обратно. Получалась эдакая фрагментированная помощь – тут чуть-чуть помогут, здесь немного подлечат. А в итоге продолжали развиваться оба заболевания, потому что одно невозможно вылечить без другого.
В современной практике, когда зависимого одновременно лечат по обоим направлениям, с каждым днем терапия оказывается все более эффективной.
Кроме того, специалисты в рамках одного учреждения имеют возможность постоянно обмениваться информацией – новыми сведениями о пациенте, о его состоянии, о результатах лечения и реабилитации. Подобная взаимодополняющая работа позволяет добиться максимальной эффективности.
Реабилитацию такие пациенты должны проходить в специальных условиях по адаптированной программе под наблюдением врача-психиатра.
Долгое время существовали сомнения в результативности идеологии «12 шагов» и сопряженных моделей реабилитации (ТС, миннесотская) в отношении больных с двойным диагнозом. Однако практика последних лет показала, что психиатрические пациенты прекрасно воспринимают эту идеологию.
Идеология «12 шагов» и сопряженные реабилитационные модели позволяют параллельно с соответствующей заболеванию терапией выстроить новую систему ценностей и моральных ориентиров, которые помогают зависимому обрести «твердую почву под ногами». В ряде случаев удается компенсировать тяжелые личностные дефекты, обучить пациентов полезным навыкам, а иногда даже сделать социально востребованными тех людей, в отношении которых уже не было никакой надежды.
Конечно, это достигается только в сочетании с соответствующей терапией. Реабилитация таких пациентов более сложна и, в зависимости от тяжести расстройства, может быть более или менее эффективна. Но в любом случае, надежный реабилитационный центр становится для подобных пациентов таким же шансом на спасение, как и для остальных, не обремененных психическим заболеванием пациентов.
В заключение этой небольшой главы хочется отметить, что в России, увы, практически нет центров, в которых занимаются пациентами с двойными диагнозами. Мы надеемся, что внимание к этой категории зависимых будет расти, и рассчитываем, что хотя бы по одному такому учреждению откроется в каждом крупном регионе нашей страны – потребность в этой помощи существует повсеместно.
РЕЗЮМЕ:
1. Значительный процент зависимых лиц может страдать сопутствующими психическими расстройствами.
2. Не выявленное вовремя психическое расстройство может стать серьезным препятствием для выздоровления наркозависимого.
3. При подборе клиники и/или реабилитационного центра следует интересоваться, консультирует ли в них психиатр.
4. Зависимые с сопутствующим психическим заболеванием должны проходить реабилитацию в специализированном центре двойных диагнозов.
Как лечат наркоманию за рубежом
Многие считают, что лечение наркомании за рубежом более эффективно. В конце концов, и идеология «12 шагов» появилась и развилась именно в США. Действительно, кое-что из опыта западных центров было бы хорошо ввести и в российские программы. Однако далеко не все методики настолько однозначно применимы к нашей реальности, и, оценивая их, необходимо делать поправку на другой менталитет, другие экономические условия (например, государственное финансирование) и, в принципе, на несколько другую структуру всей реабилитационной деятельности.
Детоксикация
В части помощи наркозависимым на этапе купирования острого абстинентного синдрома используются практически все те же подходы, что и в нашей стране. На этом этапе пациенту помогают врачи. Характер помощи определяется тем, что конкретно употребляет зависимый, как долго, какие нарушения имеются, какой срок отмены наркотика. В некоторых странах на этом этапе для опийных наркоманов используются медицинские наркотики, например метадон, которые назначаются в понижающихся дозах. Это один из методов купирования героиновой ломки: постепенное снижение дозы медицинского наркотика под контролем стационарных врачей проводится до полной отмены препарата.
В тех странах, где действует метадоновая программа (программа опийной заместительной терапии, ОЗТ), о которой мы расскажем ниже, этот этап для опийных наркозависимых не актуален. Приходя в программу ОЗТ, человек, употребляющий, например, героин, просто начинает получать другой наркотик под контролем работников метадонового центра, соответственно, ломки у него не возникает, а он на всю последующую жизнь становится зависимым от метадона и должен ежедневно получать очередную дозу в центре заместительной терапии.
Реабилитация
Немного больше свободы
В зарубежных реабилитационных центрах царит удивительная, не свойственная нашим российским центрам свобода. Например, некоторые из них не имеют ограждений, и руководство даже не понимает, зачем они нужны. Иногда территория центра граничит с фермерским полем. И всем видно, что вот зеленая трава – это трава центра, а желтое поле – это уже пахотные земли.
Во время прохождения курса в терапевтическом сообществе уже через месяц пребывания реабилитант может по предварительной договоренности взять велосипед и поехать, например, в магазин в близлежащий населенный пункт. Если такая возможность предусмотрена, то рядом с основным зданием мы обнаружим террасу с навесом, под которым хранятся велосипеды. Не под охраной, а в свободном доступе. Идиллическая картина, не правда ли?
Для того чтобы разобраться, почему это возможно и почему такая модель пока, увы, не будет работать в России, нужно понять разницу между отечественными и зарубежными программами реабилитации наркозависимых.
Далее мы будем говорить о реабилитационных центрах Европы, США и Израиля, поскольку наиболее детально знакомы с их практикой. В этих странах проблемой наркомании занимаются давно и плотно, поскольку она имеет глубокие социальные и демографические последствия. А вот в развивающихся странах с демографией все слишком хорошо, чтобы озадачиваться таким вопросом. Поэтому широкого развития реабилитационных программ там не наблюдается, на первом плане – как накормить обычных граждан.
Особняком стоит Китай, где долгое время вся реабилитация сводилась лишь к трудовым коммунам, а с точки зрения активной психологической работы они еще в самом начале пути. Заболеваемость наркоманией у них только растет, им еще многое предстоит решить, чтобы выстроить эффективную систему помощи наркозависимым.
За рубежом в большинстве случаев пациенту и его родственникам приходится оплачивать только 20 % общей стоимости реабилитации. Остальная часть покрывается за счет государственного финансирования. Если же зависимый имеет маленький доход (не относится даже к среднему классу), то ему могут провести реабилитацию вообще бесплатно. Все издержки оплачиваются из страховых и дополнительных фондов.
Кстати, если реабилитационный центр рассчитывает на работу в страховой системе, в штате должен состоять как минимум один квалифицированный психиатр.
Соответственно, туда преимущественно попадают люди, мотивированные пониманием, что им дан шанс, государство заплатит. Но насильно держать их никто не будет. Если не готов, тебе не побоятся сказать «нет», поскольку центр не зависит от твоих денег или денег твоей семьи. Выстроенная система социального прессинга выбывшего с реабилитации за нарушение просто так обратно не пустит. Он попадет либо в тюрьму, если совершал какие-то противоправные дела и реабилитировался по решению суда вместо заключения, либо испытает на себе какие-то еще социальные санкции. Поэтому в таких людях живет понимание, что пройти реабилитацию, а затем подняться по хорошо работающим социальным лифтам куда проще, чем испытывать судьбу на прочность.
Поэтому в зарубежных учреждениях проходят реабилитацию люди, которые действительно в полной мере хотят избавиться от зависимости. С подобными пациентами нет необходимости вводить серьезные ограничительные меры. Они сами готовы помогать сотрудникам центра и в том числе соблюдают установленные правила.
С другой стороны, у смягченных ограничений есть и свои минусы. Например, во многих центрах у пациентов есть доступ к просмотру телевизора, к Интернету, социальным сетям. И если за просмотром телепередач следит консультант, и когда на экране появляются сцены насилия, он просто встает и уводит группу или выключает телевизор, то, конечно же, использование Интернета контролировать гораздо сложнее, практически невозможно. Некоторые зарубежные специалисты говорят, что хорошо было бы запретить использование Интернета для реабилитантов, но пока это все остается на уровне разговоров.
В наших центрах и просмотр телепередач, и пользование Интернетом запрещены, так как было показано, что эта активность на первых порах реабилитации провоцирует у зависимого тягу к наркотику и повышает риск срыва. Ведь социальные сети, свободный, ничем не ограниченный доступ в Интернет – это стресс, постоянные бурные эмоции: с кем-то списался, с кем-то поругался. Опять же нельзя исключать, что бывшие «приятели-наркоманы» или сам наркодилер могут попытаться связаться с пациентом, уговорить его бросить лечение, вернуться к прежней жизни. То есть некоторые элементы реабилитационной свободы могут поставить под сомнение успех лечения.
За рубежом хорошо работает программа альтернативного лечения. Это юридическая норма, позволяющая правонарушителям-наркоманам выбирать в суде – заключение под стражу на установленный судом срок или прохождение курса реабилитации. Такой подход приводит к тому, что впервые «оступившиеся» граждане получают от общества шанс начать новую жизнь полноценного гражданина. Разумеется, такие наркоманы находятся в реабилитационном центре под очень строгим контролем, а иногда помещаются в специализированные центры именно для осужденных. Малейшее нарушение – и суд может решить отправить такого бунтаря «на нары».
В нашей стране вопрос альтернативного лечения еще до конца не отрегулирован, но тенденция имеется. Некоторые суды уже выносят в ряде случаев решения о прохождении наркоманами лечения вместо реальных тюремных сроков.
Тесный контакт
Впрочем, свобода не значит, что за пациентами в зарубежных реабилитационных центрах совсем не следят. Например, здесь развиты оригинальные системы коммуникации, которые мы не встречали в России.
В одном из центров наблюдали такой вариант: некое подобие информационного стенда с крючками, располагающимися в несколько рядов. На них слева по вертикали висят дощечки с именами пациентов. А по горизонтали каждый, кто проходит реабилитацию, может прикрепить дощечку, выражающую эмоцию или просьбу. Это позволяет людям, страдающим от своей стеснительности, тяжело идущим на контакт, рассказать о чувствах или попросить, например, о консультации.
Существуют и специальные дощечки, на которых разными значками указывается, где пациент в настоящий момент находится и чем занят, благодаря чему персонал может быстро сориентироваться и в нужный момент разыскать любого своего подопечного.
Материнские корпуса
Одно из главных отличий, которое, мы надеемся, рано или поздно удастся реализовать и в рамках отечественных учреждений. В каждом крупном центре есть отдельный корпус для мам с детьми – не только грудничками и совсем малышами, но и с детьми до 6 лет.
Когда мама на занятиях, за ребенком следят квалифицированные няни, сиделки – для этого нанимается отдельный штат. При самом центре функционируют детские садики. Есть даже отдельные специалисты, которые помогают мамам ресоциализироваться: учат планировать бюджет, распоряжаться финансами и т. д. Если с ребенком что-то случилось (например, заболел), сразу вызывается профильный специалист.
В России, если мать кладут на реабилитацию, с ребенком приходится что-то придумывать – оставлять у бабушек, дедушек. А до определенного возраста объяснить, куда делась мама, достаточно сложно. К тому же несколько осложняет процесс социализации. Ребенок, как бы прагматично ни прозвучало, мощнейший стимул для матери. Более того, нормализация подобных семейных отношений – это совершенно отдельный пункт, которым все-таки рекомендуется заниматься сразу в рамках реабилитационной программы.
Возрастные группы
В России большинство реабилитационных центров до сих пор представлены арендованными коттеджами, зданиями, и это представляет определенные неудобства. В том числе очень сложно адаптироваться под определенную категорию пациентов.
За рубежом центры проектируются и строятся специально, соответственно обустраиваются по заранее определенной концепции. Поэтому есть возможность проводить разделение и по социальным, и по возрастным группам. Как правило, это молодые люди до 18 лет, люди постарше – от 18 до 30 и категория пациентов более старшего возраста. Причем специфика работы, например, с подростками не исчерпывается тем, что с ними соответствующим образом работают подготовленные консультанты и психологи. При центре находятся школа или колледж, чтобы реабилитанты могли получить образование – это важная часть ресоциализации. В некоторых центрах для взрослых есть возможность освоить какую-то специальность, а иногда и не одну.
И в целом от многих зарубежных учреждений само ощущение реабилитационного центра весьма условное – все обустроено так, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Например, столовая выглядит как обычное кафе. Пациенты и сотрудники могут обедать все вместе, пусть и за разными столиками. Это тоже снижает стрессовый фактор.
Критерии оценки
Одно из значимых отличий – критерии, по которым оцениваются результаты реабилитации. За рубежом несколько смещены акценты. Для них важны социальные показатели: уровень преступности, трудоустроенность бывших зависимых. Предполагается, что если реабилитация пройдена, то человек сможет социализироваться. Одного только неупотребления недостаточно. Если человек так и не смог влиться в общество, это не тот результат, которого хотелось бы добиться.
У нас все-таки на первый план выходит спасение человека от зависимости. Это не значит, что социализация не значима, и на самом деле эти два момента взаимосвязаны. Как мы уже упоминали, сама тяга к наркотикам происходит из-за каких-нибудь психологических проблем, уже изначальной неспособности нормально жить в социуме. То есть если человек сорвался и снова начал употреблять – в России это показатель недостаточности реабилитационной программы. Если же с ним была проведена эффективная работа, то выпускник центра, так или иначе, сможет не только избавиться от зависимости, но и найти свое место в обществе, потому что у него уже отработан спектр проблем, приведший к употреблению.
Транзитные центры
Уникальный тип зарубежных учреждений, который занимается алкоголиками и наркоманами (в том числе, бездомными). На первый взгляд, это чем-то похоже на наши вытрезвители, но подход принципиально иной.
В подобных центрах работает средний медперсонал (врачей там нет), который следит за подопечными, а также психологи, которые занимаются мотивацией зависимых. Если человеку нужен «детокс», его, конечно же, отправят в клинику. Если же человек из-за своей зависимости оказался без денег, без жилья или просто спонтанно решил начать жизнь с нового листа, он может обратиться в подобный центр. Ему обеспечат крышу над головой, помогут восстановить документы, а параллельно будут пытаться помочь решить и какие-то социально-бытовые и психологические проблемы.
Находиться в транзитном центре можно несколько недель.
Дальше, если зависимый принял решение прекратить употребление, ему могут предоставить совсем недорогую социальную квартиру. Так, для сравнения, при пособии по безработице в 1000 долларов, аренда подобного жилья обходится всего в 100 долларов. То есть человеку пытаются обеспечить наиболее комфортные условия отказа от психоактивных веществ, помогают начать новую социальную жизнь.
При этом зависимому ставят новую цель – время проживания в социальной квартире тоже регламентировано, и нужно «двигаться дальше». Психологи, работающие в таком центре, мотивируют его пройти реабилитацию.
Подобные учреждения можно назвать начальным фильтром. Во-первых, они позволяют вернуться к нормальной жизни людям, которым перед реабилитацией нужна некая первичная помощь. Когда у человека нет крыши над головой, реабилитация, а тем более, ресоциализация для него представляют значительные трудности.
Во-вторых, здесь человеку создают все условия, чтобы он захотел лечиться, двигаться дальше в направлении отказа от наркотиков.
Ну и конечно, транзитный центр – это место, которое снижает криминальное напряжение в ближайшем районе: бездомному алкоголику можно переночевать здесь, а не на улице, наркоман может прийти сюда, чтобы получить простые блага – постель, еду. И не придется воровать, чтобы поесть. В таком месте и в таких условиях проще работать с бродягами и асоциальными личностями, мотивируя их на отказ от психоактивных веществ. Многие начинают путь своего выздоровления из транзитных центров, навсегда покидая опасные подворотни улиц.
Казалось бы, все отлично, но есть и свои нюансы. Например, в рамках подобных транзитных центров все «гипертолерантно». Если сюда приходит человек, у которого с собой наркотики, их уберут в специальный личный ящик, потому что сам факт употребления не наказуем. То есть когда он решит выйти из центра, то сможет забрать свои наркотики и начать заново употреблять.
С другой стороны, транзитные центры заинтересованы уговорить на реабилитацию как можно больше зависимых, поскольку получают от государства финансирование в зависимости от загрузки «постояльцами».
! Во многом зарубежная реабилитация облегчается за счет высокой информированности людей. В России примерно половина родственников пациентов в принципе не знают, что такое реабилитация и зачем она нужна. А без данного этапа лечение просто не может быть эффективным. Это даже не лечение как таковое, а просто мероприятие по частичному восстановлению организма. За счет того, что за рубежом высокая осведомленность, родственники понимают, какие шаги нужно предпринять, чтобы вернуть зависимого к нормальной жизни. Так что если произошла беда, они практически сразу начинают мотивировать человека. То есть за рубежом и больший процент людей идет в центры, и родственники всячески помогают в процессе лечения. Конечно же, это облегчает работу специалистов и делает результаты более эффективными.
Метадоновая терапия
Ее еще называют опийная заместительная терапия (ОЗТ), заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ). Это паллиативная (дающая облегчение, но не устраняющая причину болезни) заместительная терапия, которая применяется для лечения только тех наркоманов, которые употребляют исключительно опиаты, например героин. На территории России использование метадона запрещено в каких бы то ни было целях, однако данный вид терапии применяется во многих странах Америки и Европы. Сейчас во многих программах используют аналог метадона – бупренорфин, который может быть выписан, например, в США, любым врачом, прошедшим специальный однодневный курс по применению данного препарата.
Существует устойчивый миф среди наркозависимых, что с помощью метадона можно самостоятельно «переломаться» (пережить синдром абстиненции) и прекратить прием героина. Это чудовищное заблуждение. В домашних условиях наркоман не в состоянии четко придерживаться плана снижения дозы метадона. Результат: героиновый наркоман довольно быстро становится метадоновым. А «слезть» с метадона гораздо сложнее – ломка длится дольше, боли сильнее. Даже если зависимый умудрился ступенчато снизить дозы принимаемого метадона, он гарантированно вернется к прежнему употреблению героина. Об этом однозначно свидетельствует, например, исследование Methadone at tapered doses for the management of opioid withdrawal (Постепенное снижение доз метадона для терапии абстинентного синдрома при опиатной зависимости, авторы Amato L, Davoli M). Оно представляет собой анализ результатов 23 исследований, проведенных в разное время, в которых приняли участие более двух тысяч человек. Исследовали, как постепенное снижение метадона (или любого другого заместителя опиатов) влияет на тяжесть абстинентного синдрома. Было показано, что, да – абстиненция переживается легче. Но после того, как пациенты переставали принимать опиаты, большинство возвращались к приему традиционного наркотика.
Метадон действует на те же рецепторы, что и опиаты. То есть его действие подобно действию морфина, героина и др. Основные отличия: в правильной дозировке не вызывает эйфорию, действие одной дозы длится больше суток. Выпускается в виде таблеток, порошка для разведения в воде и в жидком виде. В метадоновых центрах его принимают внутрь, то есть через рот. И это – принципиальный момент, который предполагает прекращение употребления уличного наркотика внутривенным способом.
Метод ежедневной раздачи метадона героиновым наркоманам развили в США доктор Винсент Доул и его жена Мария Нюсвандер. Они исходили из спорного на сегодня суждения, что героиновая наркомания – это следствие нарушения обмена веществ (Dole and Nyswander, 1967).
Было отмечено, что препарат может применяться для «детокса» в целях постепенного замещения героина с последующим снижением дозировки самого метадона. Поскольку препарат не нужно «колоть в вену», его употребление представляет меньшую опасность в плане инфекций и передозировок.
Главным условием внедрения программы был отказ от любых психоактивных веществ. Пациенту по определенному расписанию выдавали метадон, пытаясь снизить дозировку препарата, чтобы вообще прекратить употребление, периодически тестировали, и, если обнаруживали следы других наркотиков, человека отчисляли из программы. Кроме того, с зависимым работали психологи и консультанты, которые подталкивали его к реабилитации.
Однако спустя десять лет Доул и Нюсвандер признали, что только метадоновая программа не способствует последующей реабилитации наркоманов (Dole и Nyswander, 1976).
По первоначальному замыслу это должна была быть полноценная модель социализации и лечения наркотической зависимости, цель которой – полный отказ от каких бы то ни было психоактивных веществ. Но в какой-то момент вся система перекосилась. О том, как это произошло в Голландии, нам рассказал наш друг и соратник Мартин Койман – легендарный психиатр, который стоял у истоков реабилитации в Европе. Он же и внедрял в свое время метадоновую программу на территории своей страны.
Сначала все шло по задуманному сценарию, но в какой-то момент выросло число эмигрантов. Среди них наблюдался высокий процент наркозависимых. Они были плохо социально устроены, не организованны и имели совершенно другой менталитет, отличный от того, к которому привыкли европейцы. Стало понятно, что ограничения, накладываемые на них метадоновой программой, не действуют. Большинство продолжали употреблять уличные наркотики параллельно с метадоном.
В какой-то момент с ними перестали бороться и согласились на меньшее из двух зол: разрешили и приходить в метадоновые центры, и употреблять другие наркотики – все, что угодно, лишь бы снизить уровень преступности. Естественно, через какое-то время и местные наркоманы, глядя на эмигрантов, потребовали, чтобы подобные послабления распространились на всех.
Но на самом деле проблема даже не в том, что параллельно принимаются другие препараты, проблема в самой идеологии заместительной терапии. Называясь «терапией», программа как бы вводит вас в заблуждение. Мало кто из потребителей задумывается, что есть разница между терапией вообще и «заместительной терапией». Мы попробуем показать эту разницу на фантастическом примере.
Помните историю про Айболита, написанную Корнеем Ивановичем Чуковским?
И прибежала зайчиха
И закричала: «Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!»
И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!»
Дальше Айболит пришивает зайчику ножки, и длинноухий снова бежит по дорожке. В строгом смысле, это – хирургия. И как раз то, чего мама зайчиха и ожидала от лечения: полное восстановление дееспособности, возвращение зайчика к полноценной социальной жизни.
Теперь давайте пофантазируем и представим Айболита, который останавливает кровотечение, ставит зайчика на костыли, а на немой вопрос зайчихи пожимает плечами и заявляет, что терапия проведена, лечение оказано, теперь зайка может снова бегать по дорожкам, не забывая при этом, правда, костыли дома.
Вот в этом и состоит лукавство заместительной терапии. Являясь по сути инвалидизирующей процедурой, при которой один наркотик заменяется на другой, метадоновая программа не дает человеку шансов на полный отказ от употребления психоактивных веществ. Всю оставшуюся жизнь наркоман будет вынужденно привязан к метадоновому центру, будет приходить туда каждое утро за очередной дозой. И никто не подумает заниматься тем, чтобы вернуть его к социальной жизни обычного человека, свободного от психоактивного вещества.
Плюс тем не менее имеется. Доказано, что в обществе, где действует метадоновая программа, снижается уровень распространения ВИЧ и вирусных гепатитов – основных инфекций, которые передаются через кровь. Также улучшается криминальная обстановка, связанная с незаконным оборотом наркотических средств. То есть общество, заботясь о себе, не дает наркоману шанса на полный отказ от наркотика, а просто ставит его на контроль. Поэтому нам кажется, что гораздо более справедливо данную терапию называть не лечением, а программой снижения вреда. Это больше соответствует истине.
Есть также наблюдения, что некоторым наркоманам удается, употребляя метадон, завести семьи и начать работать. Но это скорее вопреки, чем благодаря. Случаи такие эксклюзивны и плохо изучены.
Но и с точки зрения снижения вреда не все так гладко. Так, например, британский исследователь Нил Маккегани показывает, что внедрение ОЗТ приводит к снижению распространенности ВИЧ-инфекции в популяции, но говорить о том же в отношении гепатита С нельзя. Нил Маккегани также указывает на большую, нежели в обычной популяции, распространенность психических расстройств у детей, рожденных в семьях, где родители или один из родителей находятся в программе ОЗТ. Еще интересные факты: в Швеции, стране, где использование метадона ограничено, ВИЧ-инфекция среди наркоманов является редким явлением. А в Испании и Италии, где метадоновая программа широко распространена, более 70 % наркоманов являются носителями инфекции.
Сейчас в подобных центрах уже нет ни психиатров, ни психологов-мотиваторов. Там сидит какой-нибудь обычный доктор, все обязанности которого сводятся к тому, чтобы выдавать препарат и отмечать галочками визиты пациентов.
За время действия метадоновых программ накоплен колоссальный отрицательный опыт. В странах, где они распространены, большинство молодых зависимых стараются все-таки уходить на реабилитацию, поскольку воочию видят «ветеранов» – выпавших из социума пожилых инвалидов, ориентированных только на утренний прием очередной дозы.
! Заместительная терапия – это терапия отчаяния, всего лишь контролируемая наркомания, которая не может привести человека к нормальной жизни. Это нужно четко понимать.
Нам представляется, что место метадона – на задворках наркологии, а не в ее авангарде, как пытаются показать лоббисты этой методики. Если вводить метадон в медицинский оборот, то доступ в программу нужно очень строго ограничивать и включать в нее только тех пациентов, которые по каким-то причинам не удерживаются в программах реабилитации, то есть только в тех случаях, когда все остальное уже испробовано, но не привело к желаемому результату.
Нельзя рекомендовать заместительную терапию как основной вид лечения, поскольку это лишает наших пациентов шанса снова стать независимыми людьми.
Однако практика внедрения метадоновых программ в западных странах показывает, что заместительная терапия очень быстро занимает главенствующее положение, оттесняя на задний план реабилитационные программы. Мы не знаем, почему так происходит, но думаем, что это – одна из основных причин, по которой метадон не пускают в Россию. Все прекрасно понимают, что программа замещения не удовлетворится ролью «золушки» и с первых дней начнет отвоевывать свое место под солнцем, забирая судьбы пациентов.
Возвращаясь к вопросу, заданному в начале этой главы, можно сказать, что за рубежом есть многие вещи, которые хотелось бы претворить в жизнь и в рамках российских реабилитационных программ. Но есть и свои недостатки, поэтому, с учетом менталитета и достаточно высокой стоимости зарубежного лечения, лучше по возможности выбирать отечественную реабилитацию. Тем более центры, показывающие эффективность лечения, есть и в России – их не так уж мало.
РЕЗЮМЕ:
1. За рубежом признаны и развиваются хорошо нам известные реабилитационные программы, которые отличаются от лучших российских образчиков всего лишь нюансами.
2. Метадоновая терапия, на которую уповают некоторые слабо осведомленные пациенты, является в большей степени программой снижения вреда, а не избавлением от зависимости, по сути предлагая один наркотик вместо другого. Нет никаких данных, что метадон является средством отказа от наркотика и началом трезвой жизни.
3. В России, как и за рубежом, начинает развиваться практика альтернативного лечения, когда вместо реального срока суд может предложить наркозависимому правонарушителю пройти программу реабилитации. Эта гуманная мера, безусловно, серьезный шаг к декриминализации общества и возвращению в социум большого количества активных работоспособных граждан.
Постреабилитация и ресоциализация
Важно понимать, что, как и окончание реабилитационного курса, завершение постреабилитации должны определять специалисты – по внутренним критериям, разработанным в рамках модели «ТС» или «Миннесоты».
Постреабилитация – это период выздоровления зависимого, который следует за реабилитационным периодом. Как правило, в постреабилитационном периоде зависимый ресоциализируется, то есть возвращается в общество, формирует новые и укрепляет необходимые старые социальные связи, приспосабливается к условиям жизни без психоактивого вещества.
Во время реабилитации наши пациенты длительно находятся в «замкнутом пространстве» реабилитационного центра, в окружении практически одних и тех же людей. Постреабилитация начинается тогда, когда пациент готов покинуть центр, когда его состояние соответствует критериям готовности и подтверждается психологами. Но уже после того как человек вернулся в семью, в нормальную, обычную жизнь, ему периодически нужна помощь специалистов и поддержка группы.
Это первый период адаптации к жизни простого обывателя, когда рядом уже обычные люди, а не психологи и такие же зависимые. В это время могут возникать новые, непривычные проблемы, которые выпускник центра, в принципе, знает, как решать, но пока только теоретически. Могут активизироваться старые «знакомые» из бывшего круга общения, которые постараются вовлечь человека обратно в употребление, могут возникнуть трудности, которые раньше человек решил бы с помощью наркотика, встанут финансовые проблемы, вопросы трудоустройства и обустройства быта. Конечно, к таким вызовам реабилитант готовится еще в основной программе.
Постреабилитация наступает не в самый момент выхода за ворота центра, а на отдаленных этапах лечения, когда зависимый получает в ходе работы над собой все инструменты для полноценной жизни без употребления психоактивных веществ.
Перед выпиской выздоравливающий представляет «границы», которые прорабатываются заранее в работе с психологами и консультантами. Это те правила и ограничивающие нормы, которые человек должен соблюдать, чтобы не допустить срыва и оставаться в устойчивом ресурсном состоянии. «Границы» – это внутренний сторож, «оберег», гарант стабильности и чистоты.
И вот, получив в дорогу все эти полезные инструменты и навыки, человек вступает в самостоятельную жизнь.
Несмотря на каждодневный труд квалифицированных специалистов и использование проверенных методов реабилитации, пациенты получают важные навыки трезвой жизни все-таки в камерных, закрытых условиях. То есть во многом это – теория, которая требует реализации на практике. И не однократной, а каждодневной, постоянной. В реабилитационном центре человек осознает ошибки, начинает работать над своими проблемами, осознавать, как на самом деле должны строиться отношения, чего он хочет в жизни и как этого добиться. Но знать и понимать недостаточно. Нужно делать.
Людям, которые никогда не употребляли психоактивные вещества, кажется, что это весьма просто, но для бывших зависимых даже обычный контакт с незнакомым человеком на улице (например, чтобы спросить дорогу) может представлять сложность. Причем настолько, что в какой-то момент может пропасть уверенность в своих силах, особенно если что-то не получается.
Из чего состоит постреабилитационная программа?
В качественных центрах всегда предусматривается постреабилитационная программа, которая, как правило, разрабатывается и в последующем проводится специалистами центра. Они включает в себя:
• Психологическую работу.
Это консультации у психологов и психотерапевтов в индивидуальном порядке или групповые занятия, выполнение различных заданий для выявления проблем и поиска их решений. Потому что после прохождения реабилитации могут возникать какие-то новые сложности – человеческая психика не может быть статичной в течение жизни, и на смену уже решенным проблемам иногда приходят новые, которые тоже требуют сторонней помощи.
• Восстановление социальной сферы.
Возвращение в социум, общество – это и есть собственно ресоциализация. Человеку помогают определиться с выбором профессии, найти работу, учат выстраивать новые отношения, налаживать социальные связи и, что особенно важно, сохранять их в будущем. Учат, как восстановить и сохранить отношения с родственниками.
• Консультации для родственников.
Это важный элемент, о котором мы упоминали в предыдущей главе. Определенная ответственность за будущее пациента лежит и на его родственниках. От того, как пройдет возвращение в семью, как будет налаживаться общение, зависит и психологическое состояние человека, и уровень рецидивного риска.
Консультанты и психотерапевты позволяют близким избавиться от претензий и обид, которые накопились, пока человек принимал наркотики. Не в том плане, что «он не виноват», а лишь для того, чтобы семье не приходилось нести с собой груз стыда, гнева и чувства вины, которые неизбежно возникают еще во время употребления наркотика и зачастую не проходят до конца даже за период реабилитации. И это очень важно – простить человека и не оглядываться на прошлое, когда он вернулся домой. Вы каждый день видитесь, общаетесь, застарелые обиды не должны мешать вам жить вместе.
Группы самопомощи
Если в рамках реабилитационного центра не существуют амбулаторные программы, после реабилитации можно обратиться к группам самопомощи – «Анонимным Наркоманам» (АН).
Для ТС и «Миннесоты» существует огромная, доступная, бесплатная сеть групп поддержки. Они абсолютно бесплатны, доступны, действуют во всем мире и в том числе во многих городах России. Это огромный ресурс для многолетней поддержки зависимых, для оказания психотерапевтической помощи.
В некоторых центрах приучение к посещению подобных групп происходит еще на этапе активного лечения. Пациентов периодически вывозят на собрания, где они знакомятся с другими зависимыми, общаются, – в общем, привыкают к подобным визитам.
Для чего это делается? Когда зависимые проходят лечение в центре, то находятся в более-менее постоянном коллективе. Консультанты одни и те же, пациенты (в рамках курса) практически не меняются. И люди подсознательно начинают подстраиваться друг под друга. Это подсознательный и неконтролируемый процесс, который можно наблюдать в любой группе людей, которые находятся вместе длительное время (в семье, среди друзей, в студенческих общежитиях и т. д.).
Одна из целей реабилитации – максимально убрать все наносное, научить человека быть честным, открытым, исключить лицемерие. Это принцип «Ты не должен никого обижать, но должен говорить правду». При этом, когда люди знают, кто что любит или не любит, к каким интонациям и какому поведению собеседник более восприимчив, проявляется такой вот конформизм, приспособление к окружающей группе людей. Это неизбежно.
В АН пациент оказывается в кругу незнакомых людей. Он вынужден на практике отрабатывать то, чему научился в реабилитационном центре. То есть, если участнику группы что-то неприятно, он говорит, что именно. Если не доверяет собеседнику, сообщает об этом.
Когда ты в новом окружении, то становишься таким, какой ты есть на самом деле, потому что видишь этих людей, возможно, в первый и последний раз в жизни.
Что еще важно – эти группы абсолютно универсальны. Неважно, где человек находится, куда он уехал. Он может быть в Москве, или в Нью-Йорке, или на Бали – в любой точке земного шара, где есть подобная группа, общение будет иметь одну и ту же цель и вестись по одним и тем же, знакомым принципам.
В добросовестно работающих реабилитационных центрах пациентов начинают приобщать к посещению групп АН еще на этапе реабилитации – устраивают такие коллективные поездки на собрания «Анонимных Наркоманов», приучают к работе в этих группах, помогая зависимому как бы «протаптывать туда дорожку».
С этой позиции у тех же трудовых коммун и конфессиональных моделей есть существенный недостаток, потому что люди выходят «открытыми всем ветрам». Окружающий социум со всеми его сложностями, проблемами, препятствиями буквально падает на них, как огромный снежный ком. Это фантастический стресс и огромный риск, что человек опять вернется к употреблению психоактивных веществ, потому что у него нет никакой поддержки, не на кого опереться. Выпускникам конфессиональных центров проще – модель церковной общины, к которой привык зависимый, можно встретить при любом храме конфессии и получать поддержку как прихожанину.
Группы «Анонимных Наркоманов» открыты для выпускников всех центров, независимо от модели. Но тем, кому незнакома идеология «12 шагов», кто выздоравливал по другим канонам, придется испытать все сложности адаптации в этих группах самопомощи. Им гораздо сложнее понять вещи, которые за время реабилитационного курса «отпечатались на подкорке» у тех, кто выздоравливал в терапевтическом сообществе или по миннесотской модели. А рядом уже находятся те, кто все понимает и двигается дальше.
В таких условиях многие «отстающие» отсеиваются, перестают посещать собрания и оказываются брошенными на произвол судьбы. «Жить в чистоте» продолжают либо наиболее мотивированные, наиболее волевые, либо наименее затронутые зависимостью (с малым сроком употребления или употреблявшие самые легкие препараты).
Группы поддержки – это то, что будет нужно человеку практически всю жизнь. Каждый зависимый хотя бы раз в год посещает такие собрания и, поверьте, не по принуждению, а по ощущению внутренней необходимости.
Дом на полпути
С момента устройства на работу житель «дома» обязуется частично или полностью оплачивать свое проживание. У него возникают первые финансовые обязательства, которые были отброшены в ходе зависимости. Когда человек ищет деньги на новую дозу, он не думает, что украденные вещи были кем-то куплены, что украденные средства не так-то просто заработать. Устраиваясь на работу и оплачивая свое проживание, он начинает осознавать эти аспекты.
«Дом на полпути» – это особый вариант постреабилитации зависимых. Структурно, как правило, это комнаты в рамках одного здания, реже домики, в которых живут резиденты реабилитационных центров после того, как завершат основной курс. Живут не все время, а лишь часть времени, в основном пребывая в социуме и выстраивая новую жизнь в чистоте.
В различных программах это может быть как вариант дневного проживания с возвращением в семью на ночь, так и вариант вечернего и ночного проживания, если днем человек работает. Все зависит от выбранной реабилитационной модели и конкретного центра.
Для чего это нужно?
Выходя за ворота, человек снова может сорваться – от страха, от постоянного стресса, из-за того, что «старая компания» для него хотя бы знакома, и он их боится меньше, чем окружающих. Тут достаточно большую роль играет и фактор вины. Человеку может казаться, что кто-нибудь узнает о его прошлом и будет плохо относиться. Все эти факторы подталкивают к совершенно иррациональному, на первый взгляд, но психологически закономерному выходу – вернуться в опасную, но стабильную среду.
Для того чтобы этого не произошло, иногда нужен некий «буфер», некий переходный этап от жизни в реабилитационном центре к полной социализации, к полной самостоятельности. И проблему с успехом решает такой формат постреабилитации, как «дом на полпути».
Здесь уже нет такого строгого контроля и надзора. Люди сами начинают управлять жизнью и в том числе своей трезвостью. Если в центрах строго следят, чтобы на территорию учреждения невозможно было пронести психоактивные вещества, и это в определенном роде защищает, но и расслабляет пациентов (меньше искушение, если препарат все равно не достать), то в «Доме на полпути» соблазн уже выше.
Главная цель данного этапа – помочь человеку развить навыки, необходимые для жизни в социуме.
Утверждение, что группы «Анонимных Наркоманов» – постреабилитационные, не совсем правильное. Это, безусловно, компонент постреабилитации, но также самостоятельный действенный ресурс. Есть случаи, когда за неимением средств пациенты от начала и до конца выздоравливали только в группах АН.
Как все устроено?
Жильцам предоставляется максимальная самостоятельность, поскольку это уже не лечение, а форма социальной поддержки. Как правило, здесь работает непрофессиональный персонал – зачастую те люди, которые уже полностью прошли реабилитацию и ресоциализировались. Как и в учреждениях, они помогают «новичкам», исходя из собственного опыта. Они понимают и проблемы, и страхи, знают, что нужно объяснить и рассказать и как эффективнее всего помочь человеку заново привыкнуть к жизни за пределами центра.
В том числе людей приучают к тому самому главному, что утрачивается в ходе зависимости, – к ответственности. В большинстве «домов» действуют строгие правила, регулирующие поведение и быт. У каждого человека есть свои обязанности в рамках ведения «домашнего хозяйства», работает принцип домового самоуправления. Конечно, это еще не тот объем ответственности, которую берет на себя обычный человек, тем более живущий в семье, но уже необходимость принимать самостоятельные решения, выполнять договоренности и какую-то бытовую работу.
В каждом «доме на полпути» есть своя программа, которая включает различные социальные мероприятия, развлечения, групповую терапию, собрания, консультации и прочие меры, которые позволяют поддерживать некий баланс между обычной жизнью и реабилитацией. То есть, с одной стороны, человек продолжает получать помощь, с другой – уже начинает жить в более-менее нормальном режиме.
С каждым жителем «дома» заключается персональный договор, в котором не только перечисляются условия проживания, но и отражается индивидуальный план «сопровождения». В том числе обязательства найти работу и постепенно прийти к самофинансированию. Это непременное условие ресоциализации, потому что безработный человек просто не сможет выжить в обычном мире большого города. К тому же работа дисциплинирует, позволяет ставить перед собой новые цели, это одновременно и показатель изменений в зависимом, и будущее подспорье.
Наравне с постреабилитационными программами реабилитационных центров, «домами на полпути» и собраниями «Анонимных Наркоманов» существуют так называемые «домашние группы». Это собрания, которые проводятся под руководством опытных людей с большой ремиссией, которые в рамках так называемого 12-го шага берут «шефство» над новичками, помогая пройти предыдущие 11 шагов. По традиции это происходит бесплатно. Но ни психологов, ни других именно специалистов на этих собраниях не бывает. Ребята собираются самостоятельно где-нибудь в арендуемом на несколько часов помещении, получают задания по «шагам», которые нужно выполнить, отработать. Таким образом человек продолжает двигаться к выздоровлению и восстановлению нормального психологического и духовного состояния.
Постреабилитация – дело профессионалов
Иногда у родственников возникает закономерный вопрос: если реабилитация уже закончилась, почему мы сами не можем помочь близкому человеку адаптироваться в обществе? Ведь, например, в «доме на полпути» рядом будут чужие люди, а в семейном кругу он сможет быстрее расслабиться, тут ему ничего не угрожает. Мы ведь общались с консультантами, знаем, что можно и нельзя говорить, как нужно или не нужно себя вести.
Причин несколько, но на самом деле изолированно в семейном кругу без сторонней поддержки человеку намного сложнее адаптироваться, чем в хорошей проработанной постреабилитационной программе.
• Коммуникация.
В первое время, после выхода из центра, на зависимого буквально обваливается масса новых впечатлений, страхов, сомнений. Он вроде бы помнит наставления консультантов, но ему нужно постоянно чувствовать поддержку. Необходима возможность в любой момент пойти с кем-нибудь поговорить о своих проблемах. В большинстве семей бывает так, что никого нет дома. На это время человек будет оставаться один, и нет никакой гарантии, что он не сделает «ложный» шаг, поддавшись стрессу или даже обиде, что его оставили одного. В этом случае «дом на полпути» будет лучшим решением.
• Гиперопека.
В постреабилитационной группе человек находит поддержку, но тем не менее его окружают пусть и доброжелательные, но чужие люди. Ему всегда дадут совет, поддержат. Но родственники, обрадованные тем, что близкий вернулся обратно в семью, зачастую впадают в одну или другую крайность.
Они либо ждут, что он вот прямо сейчас станет таким же, каким был до употребления наркотиков, и, если не получается найти работу, если замечают подавленное настроение, начинают сознательно или неосознанно давить на человека; либо, напротив, проявляют чрезмерную заботу, уговаривая не торопиться с поиском работы («Ну, ты же только что вышел с лечения, подожди»), не давая заниматься хозяйственными делами («Зачем тебе переутомляться?»).
И тот и другой вариант, как вы понимаете, не способствует ресоциализации и, более того, создает повышенный риск возобновления зависимости. Казалось бы, все взрослые люди, все понимаем абсурдность и первого, и второго варианта. На расстоянии кажется, что вы никогда не допустите подобных ошибок. Но, на самом деле, страх за близкого человека и все испытания, которые приходится пройти, в том числе родственникам, приводят к тому, что, когда человек возвращается в семью, близкие сами не отдают отчет в своих действиях. Удержать себя в руках крайне сложно.
Такие моменты должны прорабатываться и родственниками, и самим зависимым в рамках постреабилитационного курса обязательно, чтобы не накапливать неконструктив в границах семьи.
• Недостаток информации.
Идеально понять зависимого может только другой зависимый. Максимально приблизиться к этому может только квалифицированный психолог или психотерапевт. Родственникам зачастую просто не хватает «навыков», чтобы правильно отреагировать на сомнения и проблемы, которые возникают у человека после выхода из реабилитационного центра в период адаптации к обычной жизни.
• Психологический комфорт.
Именно перед близкими мы больше всего боимся совершить ошибку, признаться в своих слабостях или неудачах. В то же время общение между зависимыми более простое, более доверительное. И это логично. Не забывайте, что зависимых долгое время преследует чувство вины, в том числе, перед своей семьей. И после реабилитации признаться родственникам, что что-то идет не так, достаточно сложно. Это создает внутреннее напряжение, человек начинает себя подстегивать, впадать в отчаяние, если не получается достаточно быстро прийти к самостоятельной жизни.
• Достижения.
Самооценка очень важна на пути реабилитации. Человек помнит, в каком состоянии его отправляли в больницу или в реабилитационный центр, и теперь ему важно самому себе доказать, что он может вернуться к нормальной жизни. И для того чтобы стать самостоятельным, обрести самоуважение, иногда нужно чего-то добиться вдали от семьи, вернуться домой, уже имея за спиной какие-то достижения, помимо жизни «в чистоте» (это как раз должно восприниматься не как подвиг, а как норма).
Поэтому проходя, например, через «дом на полпути», человек понимает, что может всего добиться сам, что потери могут быть возмещены собственными усилиями. И возвращается уже полноправным членом семьи, у которого есть свои причины для гордости, своя часть жизни (работа), за которую он отвечает.
• Близким самим нужна помощь.
Мы уже говорили, что наркомания – болезнь всей семьи. И конечно, с самого начала стараемся вовлечь родственников в реабилитационный процесс. Работы с ними меньше, но она необходима.
Вот стационарный реабилитационный курс заканчивается, и наш пациент и ваш близкий выходит в мир. Значит ли это, что родственники уже все знают и что связь с сотрудниками центра не нужна? Значит ли это, что семейный климат уже настроен на гармоничное вхождение зависимого? Нет, конечно. Все может быть: и недостаточная готовность принятия, и собственные проблемы, страх, что «он опять сорвется», недоверие, обиды, простая «забывчивость» или «принципиальное» нежелание следовать четким правилам. Все это – существенные риски, и с ними нужно работать.
Постреабилитация – это продолжение реабилитации, а значит, и родственники должны взаимодействовать с сотрудниками, ведущими подобные программы, при необходимости посещая группы и психолога, которому, поверьте, всегда есть, что сказать.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Иногда неправильное поведение родственников во время или после лечения может стать ключевой или даже единственной причиной возврата к употреблению наркотиков.
Наш пациент Павел – 30-летний мужчина, у которого изначально была непростая ситуация в семье: отец – алкоголик, мать – очень властная и в то же время опекающая женщина. Павел женат, у него на момент, о котором идет речь, уже был ребенок четырех с половиной лет.
На реабилитацию поступал два раза. Причем уже в первый раз у него был очень хороший реабилитационный потенциал, хорошая мотивация. Мать с женой участвовали в группах, консультациях, но занимали скорее соглашательскую позицию – не участвовали в обсуждениях, но обещали принимать и поддерживать все, что им скажут психологи.
После того как пациент в первый раз вышел из центра, он соблюдал и поставленные границы, и рекомендации центра. А вот со стороны семьи началось форменное противодействие.
Несмотря на то что матери рекомендовали не делать сыну дорогие подарки, она подарила ему IPhone. Потом на свой 55-летний юбилей пригласила быть тамадой за огромным праздничным столом. Потом оправдывалась, говорила, что планировала присмотреть за ним, чтобы он не пил.
Что хуже всего – все эти нарушения она скрывала от психологов, которые наблюдали ее сына в постреабилитационной программе, просила Павла ничего им не рассказывать, даже оказывая давление: «Зачем ты выносишь сор из избы? Зачем ты на меня жалуешься?»
Тем не менее психологи заметили, что с пациентом что-то происходит, пошел «откат». Естественно, пытались работать, но под влиянием матери вместо адекватной реакции начинались обиды, агрессия. Как ни странно, мать этот деструктив активно поддерживала.
Добавились и проблемы с женой, которая буквально заставляла Павла бросить группу. Говорила, что это мешает ему найти работу, ревновала к членам группы и консультантам, притворялась больной, когда пациенту надо было ехать на собрание.
Когда амбулаторная программа закончилась, Павел устроился на работу. Тут же было принято общее семейное решение – ему разрешили оставлять себе все заработанные деньги. Обычно на таких ранних сроках после реабилитации управление семейными финансами поручается кому-то другому, чтобы исключить провоцирующий фактор, установить еще одну границу между выздоравливающим и наркотиком. Об этом знали и жена и мама Павла, но было такое ощущение, что семья «просто забыла», что он наркоман с 11-летним стажем.
Через месяц сорвался. За следующие 8 месяцев было 4 детокса и 1 передозировка, в результате которой Павел едва не умер. Оценив серьезность положения, семья снова направила мужчину в реабилитационный центр.
Была проведена плотная работа со всеми членами семьи. Отец к тому моменту умер – мать после работы с психологами встретила другого мужчину, наладила личную жизнь и перестала так активно давить на сына.
С женой у Павла тоже все наладилось, но благодаря строгим границам с его стороны – «либо ты принимаешь, что я лечусь по программе, либо мы расстаемся».
Сейчас пациент 2 года в устойчивой ремиссии, но мы понимаем, что если бы в первый раз с семьей не было таких проблем, то он удержался бы и тогда.
Когда заканчивается лечение
Этот вопрос задают себе и зависимые, и их близкие. Ответ на него и превращает наркоманию в одно из самых страшных заболеваний. Потому что это хроническая, прогрессирующая болезнь, которая не может закончиться. Даже если человек живет «в чистоте», даже если он не употребляет психоактивные препараты десять, двадцать лет. Один раз проявившись, зависимость остается с человеком до конца.
Естественно, если человек проходил реабилитацию по программе терапевтического сообщества, ему правильно было бы выбирать и поддерживающие группы, работающие в рамках данной модели. Если лечение было в рамках миннесотской программы, то, соответственно, правильно было бы посещать аналогичные группы. Это – не жесткое правило, но, если его соблюдать, обеспечивается преемственность подходов. А это очень важно в качественной реабилитации.
Причем она не обязательно проявляет себя именно в тяге к наркотикам – на самом деле, само желание употребить какой-то препарат длится буквально несколько минут и очень быстро проходит. Здесь главное переждать момент. Но, как вы помните, зависимость не возникает на ровном месте. И ряд качеств, которые стали причиной, как и те, которые развились уже в период активной наркомании, остаются на всю оставшуюся жизнь.
Это может быть, например, компульсивное (возникающее как непреодолимое желание к какому-либо действию) поведение шопоголика, неконтролируемая тяга к еде, к сексу, трудоголизм, эмоциональная зависимость от какого-нибудь человека, тяга к творчеству. Тем или иным способом хроническое заболевание находит себе выход в социально приемлемую активность. И тогда мы говорим о сублимации – перенаправлении внутренней негативной энергии в позитивное или условно позитивное социально приемлемое русло.
Именно поэтому так важно пройти не только реабилитационный курс, но и впоследствии посещать группы самопомощи. Бороться необходимо всю жизнь. Если этого не будет, скорее всего, человек если и не вернется к наркотикам, то будет вести унылую жизнь, может впасть в глубокую депрессию, в состояние апатии, сублимировать влечение к наркотику в социально неприемлемое русло и стать, например, опасным для общества, выпасть в конечном итоге из социума и погибнуть как личность.
Трезвость и чистота – это только начало работы над собой. Надо трудиться над эмоциями, над отношениями с людьми и отношением к жизни длиною в жизнь. Любое хроническое заболевание разрушает человека понемногу, но постоянно.
Существует миф, что зависимый может снова начать употреблять психоактивные вещества, но это уже будет «новый заход», грубо говоря, новая болезнь, возникшая по различным причинам: встретился со старой компанией, и снова уговорили; решил, что немного «поторчу» и можно будет потом опять пролечиться; захотел выяснить, «смогу ли удержаться после одного раза».
Подобные идеи – это демагогия и полная медицинская неграмотность. Любой возврат зависимого к наркотику – это рецидив все того же хронического заболевания: на чем закончил употреблять, с того и начнешь снова. Именно поэтому не используется формулировка «бывший зависимый», потому что в одном народная мудрость права – «бывших наркоманов не бывает». Бывают те, кто прошел реабилитацию и регулярно посещает группы, чтобы период ремиссии (то есть жизни «в чистоте») растянулся на всю жизнь.
Специалисты всего мира сходятся во мнении, что зависимость не проходит бесследно. К сожалению, о ней нельзя будет забыть, как о страшном сне. Ее можно всю оставшуюся жизнь держать под контролем. Любые другие заявления – спекуляция на отчаянии семьи зависимого.
Как помочь человеку не вернуться к наркотикам
Наибольшая ответственность, конечно же, лежит на самом зависимом, но и родственники могут сделать достаточно много, чтобы снизить риск рецидива.
1. Помогите ему с поиском группы поддержки, которая располагалась бы достаточно близко от дома или работы, чтобы было удобно ее посещать и не было искушения пропустить собрание, потому что «нет времени», «далеко ехать» и т. д.
2. Избегайте любых обвинений, связанных с воспоминаниями о его зависимости. Любые «а вот ты тогда», «а помнишь, как ты» будут снова и снова пробуждать чувство вины. Безысходное, потому что никто не может вернуться в прошлое и все исправить.
С проблемами и обидами можно и нужно бороться, но более эффективными методами, с которыми вы можете познакомиться как раз на сессиях семейной терапии.
3. Избегайте прессинга и излишней подозрительности. Самое главное – это вера человека в самого себя. Но если близкие постоянно сомневаются, то и вера самого человека постепенно иссякнет. Понятно, что в первое время страшно, что все начнется снова. Но и постоянные расспросы, переходящие в крайность («Почему ты на полчаса позже пришел домой?»), ни на чем не основанные обвинения («Ты все равно рано или поздно сорвешься») могут поставить крест на всем лечении.
4. Сохраняйте бдительность. Это оборотная сторона предыдущего пункта. Не нужно быть излишне подозрительными, но и полностью расслабляться не следует. Прохождение реабилитационного курса – это не панацея и не гарантия стопроцентной пожизненной ремиссии. Просто не упускайте из виду, с кем общается близкий, не случаются ли контакты со старой компанией. Обращайте внимание на резкие изменения в поведении.
5. Не пренебрегайте семейными консультациями. У вас еще будут возникать и вопросы, и сомнения, поэтому периодические сеансы семейной терапии могут быть не менее значимы и важны для вас, чем группы поддержки для зависимых. Там, как минимум, можно избавиться от стресса, который неизбежно в первое время возникает при мысли, что человек может снова вернуться к употреблению наркотиков.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Многие думают, что возвращение зависимого в жизнь возможно только на каком-то минимальном уровне, – то есть что он перестанет употреблять и найдет какую-то работу, которая позволит худо-бедно существовать. Но, поверьте, вы удивитесь, каких результатов иногда достигают пациенты.
Алексей был настоящим «пацаном с улицы», в какой-то момент пошел по дурной дорожке, стал бандитом, начал употреблять наркотики. Для его матери начался настоящий кошмар – она пыталась класть его в больницы и реабилитационные центры, не пускала домой. Он постоянно сбегал, пытался возвращаться, требовал денег. Несчастная женщина отчаялась до такой степени и настолько перестала верить собственному сыну, что в какой-то момент после очередного побега из реабилитационного центра окончательно и бесповоротно выставила Алексея за дверь. Он остался жить на улице и едва не умер голодной смертью. Доведенный до отчаяния, парень каким-то хитрым путем все-таки проник в дом, зажал собственную мать в углу, требуя денег, и едва ее не задушил.
Хорошо, что после побега Алексея сотрудники центра сразу связались с полицией: через несколько дней его выследили на подходе к дому, и только это предотвратило трагедию. После инцидента поставили простое условие: «или ты сейчас полностью проходишь реабилитацию, или тебя посадят».
Алексея на год отправили на реабилитацию в Одессу. Почему так далеко? Чтобы человек уже начал осознавать, что к матери бегать бесполезно. Все. Или лечение, или ничего. Через год его вернули в Москву и прямо с вокзала привезли в наш центр еще на год.
Он прошел реабилитацию, ресоциализацию. Его учили самым банальным вещам: как составлять резюме, как проходить собеседования при приеме на работу. То есть полностью выстраивали новую личность, по кирпичикам.
А недавно он заезжал к нам «в гости» – шикарно одетый, уверенный, ничем не похожий на того бандита, которым был когда-то. Сейчас это успешный менеджер, на которого на работе едва не молятся, настолько эффективен на своем рабочем месте.
Вот они – реальные результаты грамотной реабилитации: путь от бандита до успешного менеджера. И такие истории не единичны.
Самое главное напоследок
Мы надеемся, что эта книга поможет усвоить простые истины:
1. Наркомания – не приговор. Выход есть даже в самых «запущенных» случаях, нужно лишь следовать правильному пути.
2. Лечение – долгий, но очень динамичный и позитивный процесс, большая часть которого – немедицинская реабилитация, в которой роль медицины если и есть, то минимальная.
3. Лечение наркомании – дело большой команды специалистов не только медицинского профиля. Вся команда должна слаженно и последовательно действовать, передавая пациента из рук в руки на разных этапах выздоровления. Нельзя избавить человека от зависимости одним «лекарством» за один день силами одного «чудесного доктора».
4. Лечение наркомании будет не полным, если в этом процессе не участвует семья зависимого. Это болезнь не одного человека, а всей семьи.
5. Никогда не отчаивайтесь! Всегда помните, что если одному не под силу борьба с зависимостью, то вместе мы можем многое.
С автором книги можно связаться
• по телефону: +7 (495) 795–00–66
• по электронной почте: info@ne-zavisimost.ru
• через форму обратной связи на сайте ne-zavisimost.ru
Исаев Руслан Николаевич
Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 1050; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
