Спор Паскаля и Ноэля о пустоте и теле 18 страница
Надо однако оговориться: не просто формальные и литературные анализы должны найти здесь место, как бы мало их ни было произведено в отношении стихов Языкова и как бы их отсутствием ни тормозилось психологическое истолкование Языковских произведений в их художественном своеобразии. Формально-поэтические элементы, помимо самодовлеющего изучения, могут изучаться и со стороны психологической, — психологической выразительности и психологического воздействия. Только под этим углом зрения мы и будем их рассматривать: формальные особенности для нас приметы художественной личности Языкова, той личности, которая наложила печать на его стихотворения. И только осветив художественную личность, можно уже затем говорить о связи ее с биографически данной личностью.
Анализ всего уместнее начать с общих характеристик языковского стиха, дававшихся различными исследователями и позволяющих судить о том общем, полусознательном впечатлении, которое оставалось у всех, читавших Языкова, и которое в сущности свидетельствует о психологическом общем строе языковской лиры в не меньшей мере, нежели о преломлении ее в сознании языковских читателей.
I
В 1833 году К. Полевой писал: «стих Языкова закален громом и огнем Русского языка». Об этом громе и блеске будут говорить все, позднее писавшие о Языкове. И. Киреевский (1834) говорит о «роскоши, блеске и раздолье, кипучести и звонкости, пышности и великолепии» его стиха. Белинский (1845) говорит: «все были поражены... звучностью, яркостью, блеском и энергиею его стиха». В той же статье он пишет: «в стихе г. Языкова много блеска и звучности; первый ослепляет, вторая оглушает». Погодин (1846) говорит о «стихах пламенных, громозвучных», о том, что «златокованый стих его возгремит еще громче, заблистает еще ярче, чем прежде». Шевырев (1847) говорит о «широком раздолье его громозвучного слова», о «заветном,
|
|
|
Психология творчества Языкова
231
 | |||
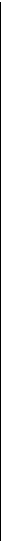 | |||
тайном чувстве, связывающем поэта с основою народной жизни... которое гремит громом в последних его произведениях, обещая какую-то чудную, новую поэзию». Кн. Вяземский говорит в стихах о Языкове «сверкавшем и гремевшем огнедышащим стихом»1, в статье — о «бойком и звучном стихе» его (1847).
Но никто, быть может, не проник так глубоко в этот блеск и гром Языковского стиха, как Гоголь, у которого на этот счет есть поистине замечательные строки: «...сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света». И в другом месте: «стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него тогда только жив, когда он движется, или звучит или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое»2. Даже второистоки, газет-но-журнальные статьи и статейки, каким-то отблеском усвоили то же. Так, в «Иллюстрированной Неделе» (1875) говорится о «блестящем» стихе, «блестящем» даровании, «силе и блеске» стиха.
|
|
|
Верно заметил И. Киреевский: «нельзя не узнать стихов Языкова по особенной гармонии и яркости звуков, принадлежащих его лире исключительно». Но вопрос в том, что же является фундаментом этого впечатления, где же в самом стихе точки, дающие повод к такому представлению? Помимо инструментовки стиха (о которой скажем дальше), этому способствуют описания звучностей, столь часто попадающиеся у Языкова, и притом описания звучностей массивных, громовых.
Так с неба падающий гром Подземных грохотов звучнее. Так песнь победная громчей Глухого скрежета цепей. (I, 7)
Языков сам в стихах говорит о блеске и звонкости стиха:
Стихи, внушенные тобой, Звучат и блещут золотые! (I, 105)
Тебе стихи мои звучали Живые, светлые, как ты (I, 124)
Блестящ и звонок вольный стих (I, 247) стихом блистая удалым (I, 303) И мой разгульный, звонкий стих (I, 326) резкий звон стиха (I, 252) Полет мечты и звон стиха (I, 271)
Кстати — эпитет «громозвучный», которым характеризовали стих Языкова — эпитет чисто языковский: «И громозвучный наш язык» (I, 270).
|
|
|
Но не только описания звука, — звукоподражания и тонкая инструментовка свойственны Языкову. Айхенвальд (Силуэты, 64) говорит о «буйной фонетике» у Языкова, о том, что Языкову присущи «эпитеты звуковые, всякая хвала громопо-добию, громозвучанию, гудящему колоколу, шуму широководной реки, топоту „бурноногого коня", „многогромной войне"» (ibid. 65). Недаром так часто аллитерации на «С», звук светлый и сияющий, попадаются у Языкова: Светла, свободна и спокойна (I, 143) Стекло сшибалось ςο стеклом (I, 175) И славлю смертными стихами (1, 189) На стогнах смертельный свирепствовал бой (I, 51)
Весьма часто эпитет начинается с того же звука, что и существительное. На то же «с»: «на скучной степи бытия», «тревожа слабые сердца», «в стране, где славной старины», «я думал страстными стихами», «Где дремлют Сороти студеной Гостеприимные струи», «сельскую свободу возлюбя», «на милой тесноте старинного стола» и т. д. На другие звуки: гордый Грек, бодрым бойцам, поэзии подложной, вольных вдохновений, невской непогоды, поступью павлиньей и т. д. и т. д. — можно было бы примеры умножать до бесконечности. Заметим, «энергия» стиха, отмечавшаяся критиками, хоть отчасти не отсюда ли, ибо в самом деле такое настойчивое повторение одного звука в двух смежных словах придает стиху какую-то чеканность и твердость.
|
|
|
Гоголь и его современники восторгались инструментовкой стихов, описывающих игру в свайку:
Тяжкий гвоздь стойком и плотно Бьет в кольцо; кольцо бренчит. (I, 164)
Но можно было бы умножить примеры столь же совершенной инструментовки: жуткая инструментовка на «ч», «у», «р», стиха, веющего почти вещественным пожаром войны:
Пожар Чесмы, чугун Кагула, И Руси грозные права! (I, 171)
Или (инструментовка на «о» и «т»):
Не стонет дол от топота коней (I, 39).
Или инструментовка на светлое, сияющее, прорезывающее «е», сменяемое влажным «а»:
Светлее зеркальных зыбей, Звезды прелестнее рассветной, Пышнее ленты огнецветной Повязки сладостных дождей. (I, 105)
Или, наконец, звуковое описание шороха леса, инструментованное на «ш», «х», «т», усиливаемое потом «щ» и «х» и глухим «у»:
В вершинах леса, там и там, По шепотливым их листам Мгновенный шорох пробегает — И смолкнет вдруг, и вдруг сильней Зашевелится мрак ветвей И лес пробудится дремучий, И в чаще ходит шум глухой — Здесь и тогда, ручей гремучий, Твой говор слышен волновой! (I, 155)
Шум, гром и сияние, почти вещественные, наполняют стихи Языкова. Историк нашел бы в них отголоски старых державинских громов. Так, ярко видно это из сопоставления хотя бы с одой «На взятие Измаила»:
Краснеет Понт, ревет гром ярый, Ударам вслед звучат удары, Дрожит земля, дождь искр течет...
У Державина — громы екатерининских войн и екатерининской славы. У архаи-i современников Языкова, — у Федора Глинки, например, возродится библейский.
|
|
Психология творчества Языкова
233
 |  | ||||
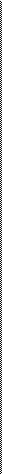 | |||||
Грядет, грядет Господь вселенной! Грохочут громы по следам; Грядет и глас гремит священный От неба и до бездн... 3
Но у самого Языкова только поздно, в 40-е годы гром и гул станут громами «священной поэзии». Каково психологическое окружение их в первый период, об этом позднее, сейчас достаточно установить, что так есть.
Но не только вещественно-звуковая сторона сияет в стихе Языкова — упругая гибкость ритма упорядочивает эту почти материальную звучность стиха, сдерживает эту вещественность какой-то властной силой. Опять-таки нельзя не процитировать Гоголя: «Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как Араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своей властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный». В сущности то же в другой метафоре сказал Шевырев: «Ни у кого из поэтов русских стихи так свободно не льются, и слова так покорно не смыкаются в одно согласное и великое целое, как у Языкова. Он движет ими и строит ряды их, как искусный полководец обширное воинство». И если опять посмотреть на те элементы в строении произведения, которые производят подобное впечатление, нельзя не признать, что одним из поводов к последнему является обилие перенесений (enjambements), отмечавшееся всеми, кто только читал Языкова. Верховский, например (с. 37—38), говорит о шестистопном ямбе, которым писаны элегии последних лет: «Как он далек от классического александрийца пластической антологии! Одно „обилие „перенесений" дает ему простоту и развязанность, непосредственность и свободу импровизации». Особенно явственно эта упрямая энергия стиха выступает в стихотворении «Конь»: здесь смысловое дробление, логические цезуры и логические связи поистине противоборствуют с метрической тканью стихотворения (четырехстопный хорей).
Властная энергия Языковского стиха, которой поэт как бы хвастается, не только в ритме обнаруживается: в синтаксисе порою она же видна — в расстановке слов, например:
Как прежде, белизну возвышенных грудей Струями локоны златыми осыпайте! (I, 211)
более чем капризно расставлены здесь слова второй строки. В стихотворении «Весенняя ночь» два эпитета поставлены рядом: один — в форме прилагательного, другой (неожиданно) — в форме существительного:
...Где же ты,
Как поцелуй насильный и мятежный, Разгульная и чудо красоты'! (I, 207)
Или в другом стихотворении:
Во мне божественное живо Воспоминанье о тебе. (I, 154)
С большим усилием можно прочесть последние строки так, чтобы слушатель воспринял «божественное» в качестве прилагательного к «воспоминанье» и не поставил между строками паузы — запятой или тире. Доказательство тому, что даже музыканты (Даргомыжский) не вполне справились с этой задачей и в романсе не сумели спаять воедино этих строк.
И, наконец, появление малоупотребительных грамматических форм, приковывающих к себе внимание своей капризной изогнутостью — свидетельствует о все том же. Так, порою Языков ставит форму единственного числа вместо более употребительного множественного:
Да кудрю темно-золотую (I, 249) Под стеклянным брызгом волн (I, 232)4 или наоборот — форму множественного вместо единственного:
Подняв холодные железы (I, 38)
Таково вкратце периферическое (формальное, внешне-психологическое) своеобразие языковских стихотворений: блеск, звучность, ритмическое упрямство. Нужно теперь от периферии двинуться вглубь.
II
Принято причислять Языкова к пушкинской школе. Еще Вяземский в 1847 году подал повод к этому мнению словами: «В нем угасла последняя звезда пушкинского созвездия, с ним навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры». В утрированно-резком виде восприняли эту мысль позднейшие исследователи. Николаевский (1850) пишет: «Он принадлежал к школе Пушкина и, может быть, первоначально заимствовал у него меру и стих». Айхенвальду (Силуэты, с. 70) дорого то, что на Языкове «сияет отблеск Пушкина» и «желанен он», по мнению Айхен-вальда, «русской литературе, как собеседник великого поэта». Статья Я., озаглавленная «Памяти Языкова» и помещенная в «Московских Ведомостях»5, развивает образ Вяземского, причисляя Языкова к тем поэтам, которые подобно планетам, обращающимся вокруг небесного светила, окружали нашего великого поэта, как плеяда, часто заимствовали у него блестящие особенности своих произведений и, после ранней кончины Пушкина, продолжали долго озарять нашу литературу ярким отблеском его поэтических созданий. Сиповский, критикуя Смирнова, утверждает, что сближение Пушкина и Языкова должно быть краеугольным камнем всякого исследования о Языкове, так как «все поэты-современники Пушкина интересны, только как его сподвижники, которых он многому учил и у которых иногда сам учился»6.
Но против этого мнения иногда раздавались протестующие голоса. Знаток языковской поэзии Садовников (Отзывы, 524) по этому поводу пишет: «самый строй языковской лиры был совершенно иной: на более торжественный лад. Он был отголоском Державина, которому, как русскому поэту, принадлежала первая любовь Николая Михайловича. Жуковский и Карамзин занимали вторые места».
Смирнов в своей монографии о Языкове (Пермь, 1900, с. 265) пытался также Разграничить языковскую и пушкинскую поэзию, но сближение с Батюшковым, на которое особенно напирает Смирнов, вряд ли удачно7. Однако интуитивно все *е Смирнов верно чуял, что исторических корней языковской поэзии следует искать где-то до Пушкина. В самом деле, Языков именно тем и интересен, что в нем каким-то чудом сохранились традиции более старые, чем пушкинские, традиции, выходившие из моды в его время, становившиеся «провинциальными» — традиции ломоносовско-державинские, боровшиеся как с призрачным романтизмом, так и с байронизмом, с пушкинизмом, и вообще с более новыми течениями.
|
|
Психология творчества Языкова
235

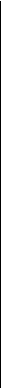 ** - У ι ___________________________________________________________
** - У ι ___________________________________________________________
Напомним, что до 1826 года Языков не питал особой симпатии к поэзии Пушкина — неважно, что, может быть, это чувство было навеяно извне влиянием его учителя, дерптского профессора словесности Перевощикова8. Старые критики, современники Языкова, особенно ясно чувствовали державинское в языковских стихах. Ше-вырев (1847) говорит: «Марков заставлял Языкова переписывать стихи Ломоносова и Державина: других поэтов он не знал. Вот где была первая школа Языкова; вот гел его мужественный стих. В Дерптском уединении поет он Ломоносова, ι и Жуковского, которые питали его молодую музу». К. Аксаков в своей Ariv^F.~^.ra сближал Ломоносова и Языкова9. Вяземский, говоривший о Языкове как звезде «Пушкинского созвездия», в стихотворении «Поминки» (1853) нает о Державине:
Пушкин был отец твой крестный, А Державин — прадед твой,
| а в другом |
стихотворении ' ' еще ярче запечатлел ту же мысль, говоря о Дерпте:
Державина святое знамя
Ты здесь с победой водрузил!
Ты под его широкой славой
Священный заключил союз:
Орла поэзии двутлавой
С орлом германских древних муз.
И позднее чуяли державинских орлов у Языкова. Смирнов говорит о «некоторой» родственности поэтического таланта Языкова и Державина (с. 253). Аноним «Московского Обозрения», весьма несочувственно относящийся к Языкову, сближает (с. 219) Языковское описание Кавказа в послании к Хрипкову с державин-ским «На победу графа Зубова», и вообще отмечает (с. 189) влияние державинских стихов, на которых Языков вырос. Впрочем, он же замечает (с. 191): «Того орлиного взмаха, Юпитеровского грома, которым поражают некоторые строфы Державина —
у него нет».
Всмотримся однако ближе в языковских и державинских орлов. У Державина — орел тсралыщко-аллегорический, орел эмблем — орел императорский. Таков он в «Видении Мурзы»:
Орел полунощный, огромный, Сопутник молний торжеству, Геройский провозвестник славы, Сидя пред ней на груде книг, Священны блюл ее уставы; Потухший гром в когтях своих И лавр с оливными ветвями Держал, как будто бы уснув.
Или — «Осенью во время осады Очакова»:
...орел
Над древним Царством Митридата Летает и темнит луну; Под звучным крыл его мельканьем То черн, то бледн, то рдян Эвксин...
Это орел екатерининский, орел осьмнадцатого века. У Языкова же орел поэтический, символический. Вдохновение для Языкова не иное что, как парение орла.
Орел великий встрепенется,
Расширит крылья и взовьется
К бессмертной области светил. (I, 104)
По опыту знает Языков, как поэтический гений поднимает крылья:
И зря, как вас венчает Бессмертие в веках, Приподнимает крылы И чувствует в крылах Торжественные силы. (I, 31)
И в обращении к поэту, наконец, звучит то же:
Невинен будь, как голубица, Смел и отважен, как орел.
В послании к Княжевичу (I, 34):
Ты, радуясь душой, услышишь песнь свободы В живой гармонии стихов, Как с горной высоты внимает сын природы Победоносный крик орлов.
Только однажды и у Языкова всплывает образ военного как у Державина орла, да и то в тонах архаистических: в Военной Новгородской песне 1170 года (I, 89):
Свободно, высоко взлетел орел, Свободно волнуется море; Замедли орлиный полет, Сдержи своенравное море!
Но все же родственные тона связывают Языкова с Державиным. Орел позднего «библейского» Языкова вместе с тем и державинский орел:
Возьмет ли арфу: дивной силой Дух преисполнится его И, как орел ширококрылый, Взлетит до неба Твоего. (I, 203)
Языков любит державинские эпитеты «пышный», «торжественный» и говорит о солнце, восходящем в торжественном покое (I, 95), о пышной тишине восходящего солнца (I, 119)'2.
Однако, если мы перейдем в более глубокий психологический слой, в тематический, то разница станет явной.
Тематика была всегда в глазах критиков больным местом Языкова. Странным образом Белинский и Сенковский подавали здесь друг другу руки. С тридцатых годов тянутся почти до наших дней упреки в «бессодержательности» поэзии Языкова. К. Полевой (1833) утверждает, что «всегдашним, лучшим перлом стихотворений г-на Языкова останется выражение оных», и характеризует Языкова как «поэта выражения». Берг (1833) пишет: «ein besonderer Reiz liegt in seiner Sprache». «Отечественные записки» в 40-х годах отмечают в «Новых стихотворениях» «отсутствие всякого определенного и неопределенного содержания» и т. д. и т. д. И позднее (1850) еще заявляют, что поэзия Языкова без содержания, но полная увлекательной силы и гармонии стиха (Николаевский). Белинскому кажется недостойным поэзии воспевать вино и только вино. Наставительно он замечает: «Мы понимаем, что есть Поэзия во всем живом, стало быть, есть она и в питье вина, но никак не понимаем, чтоб она могла быть в пьянстве; поэзия может быть и в еде, но никогда в обжорстве».
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 42; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
